Но Тиц и не думал обращаться к начальству. Это было бы не только опасно для него, но и бесполезно. Выполнение плана любой ценой было здесь почти официальным девизом. Все, от начальника горнорудного управления до последнего бригадиришки знали, что срыв добычи стратегического сырья в установленном количестве приравнивается к государственному преступлению. А вот количество крови, на которой замешено это сырье, никого особенно не интересует. Тем более что это кровь людей второго и третьего сорта, всяких там уголовных преступников и врагов народа. Всех, кто лез к начальству с предупреждениями, пусть вполне обоснованными, насчет опасности для работающих на руднике, сейчас не жаловали и считали их поведение назойливым и бестактным.
Пожалуй, лучше всех это понимал здешний инженер по ТБ. Его вполне устраивало положение простого регистратора несчастных случаев, происходивших на руднике чуть ли не ежечасно. Но так как их жертвами почти всегда являлись «вторые», то эти же «вторые» объявлялись, как правило, и их главной причиной. Они не только не соблюдали, в силу органически присущей этим людям недисциплинированности, необходимой осторожности в работе, но и нарочно иногда подстраивали несчастные случаи, чтобы получить ранение или увечье. Ведь это означало для них вожделенную инвалидность или, по крайней мере, длительный «кант» в лагерной больнице! Степень официального недоверия к заключенным по части причин их увечий дошла до такой степени, что на предприятиях основного производства в Дальстрое была учреждена даже должность специального оперуполномоченного, без подписи которого не имел силы ни один акт о несчастном случае. А может и этот случай подстроен? Заключенный ведь спит и видит, как бы ему остаться калекой, чтобы не работать! Впрочем, ирония здесь весьма относительна. Заключенные на колымской каторге и в самом деле завидовали получившим увечья товарищам, а некоторые действительно занимались членовредительством, «саморубством», как оно вполне официально называлось на лагерном языке. Даже погибшие в производственных катастрофах объявлялись иногда саморубами, не сумевшими предусмотреть размеров ими же подстроенной аварии.
— Почему не работаете? — обрушился Артеев уже на заключенных. — Кто тут старший? Ты? Так вот, имей в виду, никто отсюда не уйдет, пока последнего куска отбойки не вывезете! Понял? — Тон грубого окрика по отношению к заключенным рабочим образованный коммунист считал не только допустимым, но и почти обязательным. Те покорно начали забрасывать камни в вагонку Жартовского, и только Прошин некоторое время не двигался, глядя на начальника с каким-то насмешливым вызовом. — А тебя что, не касается? А ну, пошевеливайся! — крикнул тот отходя.
— Боюсь, тесно нам будет пошевеливаться, когда корж обвалится… — буркнул Прошин, но взялся за лопату.
Тиц все еще продолжал с угрюмым видом водить световым кружком своего фонаря по потолку выработки, когда в нее вкатил пустую вагонку откатчик Зеленка. Он тоже, конечно, посмотрел вверх и, пораженный, замер на месте со своим коппелем. Зеленка только теперь узнал о корже, и на добродушном лице белоруса округлились широко открытые глаза и полуоткрытый от неожиданности рот.
— Чего уставился? Проезжай! — сердито закричал на него Артеев, которому откатчик загородил выход из штрека.
Однако Зеленка продолжал топтаться на месте, испуганно и часто моргая своими чуть навыкате глазами:
— Так там же он яке высить, гражданин начальник!
— Проезжай! — уже свирепо рявкнул тот. — «Высить!» На фронте, над бойцами не то еще «высить», да оборону держат! — Это было сказано, несомненно, не столько для этого откатчика, деревенски простоватого вида, сколько для остальных работяг, угрюмо нагружающих коппель при свете карбидки. Артеев был мастером демагогической фразы. Даже еще не высказанные претензии заключенных работяг он пресекал такими вот словами о фронте, на котором, мол, еще хуже, чем здесь. Попробуй, возрази, когда «Каждый грамм нашего металла, — гласил плакат, расклеенный здесь повсюду, — пуля в сердце врага!».
Испуганный начальственным окриком, пожалуй, сильнее, чем нависшим над головой коржом, откатчик покатил свою вагонку под погрузку. Вслед за ним в забой вошел человек с тусклой аккумуляторной «конкордией» в руке.
— Здравствуйте, гражданин начальник! — сказал он с легким кавказским акцентом.
При первом взгляде на Арутюнова его нельзя было принять за здешнего заключенного. Вместо ватника на нем была надета овчинная безрукавка, вместо идиотского вида «ежовки» — меховая шапка, ноги обуты в крепкие кирзовые сапоги. Но самым главным признаком привилегированного положения у руководителя стахановской бригады были борода и усы, притом не совсем обычного фасона. Бородку Арутюнов подстригал в виде длинного клина, а усы носил стрелками. Вряд ли, однако, он знал, что в сочетании с его крючковатым носом, задумчивыми внимательными глазами и неизбежной копотью на лице они придают ему мефистофельский вид. Сходство с гётевским персонажем усиливалось еще более на фоне подземных выработок, особенно при свете факелов. Впрочем, когда бригадир начинал говорить и двигаться, оно почти пропадало из-за его кавказского выговора и несколько суетливых движений.
Читать дальше
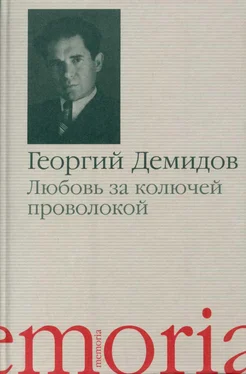

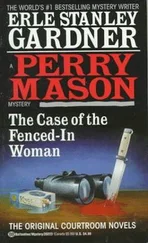


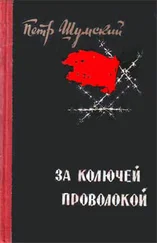
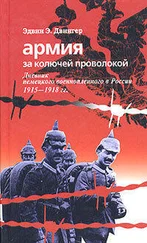

![Георгий Демидов - Чудная планета [Рассказы]](/books/419029/georgij-demidov-chudnaya-planeta-rasskazy-thumb.webp)