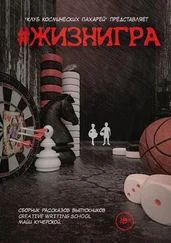Но Анна, завидев праздничное десертное шествие, по-детски просияла и вдруг – впервые на хрипуновской памяти – улыбнулась необыкновенной, яркой, совершенно не соответствующей такому ничтожному и идиотскому, в сущности, поводу улыбкой. Улыбка была быстрой, почти мгновенной, как галька, летящая в речную ребристую воду, но тень этой секундной улыбки, легко скользя по ее лицу, вдруг начала наполнять мир торжественным, неторопливым, грозным смыслом. Тем самым. Да, точно, тем самым.
Хрипунов, пытаясь пристроить к краю пепельницы непослушную, немеющую, словно парализованную руку с тонко, страшно и беззвучно дымящимся окурком, завороженно смотрел на чуть изогнутую верхнюю губу, подернутые пушистым светом высокие скулы и крошечную, не предусмотренную никакими операциями ямочку в углу сияющего рта. Это было оно. ЛИЦО. То самое лицо из кошмара – лицо, которое мучило и преследовало его всю жизнь.
Было абсолютно, немыслимо, оглушительно тихо. Хрипунов, чувствуя, как сжимает его со всех сторон густой стеклянистый безмолвный воздух, зачем-то машинально взглянул на часы – двадцать один час пять минут. Анна, хотел позвать он, но не сумел, и только простонал мысленно: Ааааа… Но она все равно почувствовала, и, все еще (на самых кончиках ресниц) удерживая тающую, плывущую улыбку, медленно, словно в аквариуме, повернула голову и заглянула Хрипунову прямо в глаза – своими огромными, неподвижными, ярко-бледными, полупрозрачными глазищами. И вдруг все кругом – все-все-все – разом сложилось волшебным и счастливым образом: так складывается пазл, так собираются цветные стекляшки в картонной обтрепанной трубке и, отразившись в трех зеркальных гранях, вдруг наполняют распахнутый глаз ребенка абсолютной, божественной, переливчатой гармонией. Мир был совершенно ясен, прост, он лежал на хрипуновской ладони – крошечный, влажный, разноцветный, пульсирующий, невероятно живой… Хрипунов медленно, страшно медленно – со скоростью мезозойских ледников – поднес к губам распахнутую ладонь и, уже ощущая губами близкое биение и нестерпимый жар, вдруг почувствовал, как откуда-то изнутри и одновременно как будто сбоку или даже сверху – да как же это? такое же просто физически невозможно! – на него, как в детстве, наплывает высокий, пронзительный, невыносимый МОЗГОВОЙ КРИК.
Орала толстая канадка, принявшая на бугристый, выпирающий из платья, багровый от загара загривок вазочку с мороженым. Обломки вафельных трубочек и махонький зонтик покоились на ее блондинистой, замысловато уложенной, глупой голове – бесстыдно и одновременно целомудренно, словно смешные трогательные вещицы (карамелька, помада, тампон), выпавшие на виду у всех из расстегнувшейся дамской сумочки. На пол-октавы ниже канадки голосил канадкин муж – крепкий старикан в мятом полотняном костюме, заточенный в тесный стул, из которого он мучительно и безуспешно пытался вырваться, чтобы расправиться с безруким официантом. Официант, пепельно-бледный, словно дорогая льняная скатерть, и весь обвешанный крупными, как чирьи, каплями пота, напротив, молчал, будто получил по лбу бетонной стеной, и никаких попыток спасти мороженое (или хотя бы канадку) не делал. А только таращил потрясенную физиономию на Анну, громко, на весь ресторан, ахнувшую от жалости, неожиданности и испуга.
Хрипунов крепко тряхнул шумящей головой, отгоняя медленно уползающий морок, и воткнул наконец сигарету в пепельницу. Часы на его запястье равнодушно показывали двадцать один час пять минут – только секундная стрелка тряслась на пару миллиметров восточнее прежнего направления. Надо же – целая жизнь прошла незамеченной. Целая жизнь… Анна все разглядывала погибший десерт, прижав к груди маленькую ладошку и сочувственно, как белка, цокая языком. А из дальнего угла ресторана уже несся, рискованно наклоняясь на поворотах, юркий метрдотель, ухитряясь одновременно метать в остолбенелого подчиненного далекие, рокочущие молнии и сладко улыбаться любопытно тянущим шеи курортникам, которым любое происшествие, будь то рухнувшая тарелка или тройное самоубийство из ревности, – всего-навсего дополнительная острая приправа к поднадоевшей ресторанной стряпне.
Мир вновь распался на равнодушные, несовершенные части. Хрипунов бросил на стол пару купюр, осторожно, двумя пальцами – как стрекозины крылья – взял горячее запястье своей оставшейся без сладкого жертвы и молча повел ее из ресторана.
* * *
Крючок для глазных мышц с ограничителем. Для изоляции нервных стволов. Для оттягивания крыльев носа. Для радужной оболочки острый. Крючок для оттягивания глазных мышц.
Читать дальше
![Марина Степнова Хирург [litres] обложка книги](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-cover.webp)
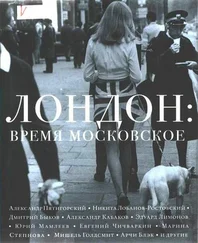





![Марина Степнова - Сад [litres]](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-thumb.webp)
![Марина Серова - Хирург дьявола [litres]](/books/400874/marina-serova-hirurg-dyavola-litres-thumb.webp)