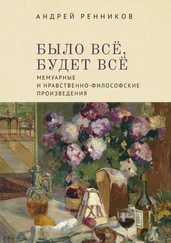Называя два каких-нибудь конкретных предмета, человек сначала не соединял их в словесную форму суждения, как субъект и предикат, а указывал их взаимоотношение непосредственно, без звуков, мимически, или телепатически. Однако, по мере того, как искусственными стали не только многие предметы, но и действия самого человека, соответственно стали появляться и слова, обозначающая указанные действия. В связи же с этим вся психика человека постепенно стала претерпевать изменения.
Первичная телепатическая передача всегда была целостной, в виде полной картины, возникающей в сознании отправителя. Но совсем не то стало происходить при речевом общении, когда запас звуковых сигналов оказался достаточно значительным, чтобы заменить собою непосредственную мысленную связь индивидуумов. Речевое общение прежде всего произвело, так сказать, поляризацию в прежнем экранном образе мышления. Оно из всей картины, представлявшейся отправителю, брало только те элементы, которые давали самый существенный ее «разрез». В противоположность телепатическому собеседнику, собеседник речевой не может передать любое происшествие во всей полноте зрительных, слуховых, мускульных и прочих ощущений; он должен восстанавливать картину, давая разные ее более или менее существенные сечения. А так как таких сечений неопределенное множество, то всякое речевое изложение всегда односторонне ограничено. Первоначальное употребление слов, с их расплывчатым отношением к содержанию и объему понятий, делало малоценным каждое сечение картины. Следовательно, речевое общение требовало какой-то особой обработки, чтобы компенсировать утерю преимуществ телепатического общения. И, вот, интеллект взял на себя эту работу.
Первобытная речь при установлении более точного кода требовала от интеллекта создания особых условных мыслительных образов, которые были бы своего рода орудиями новой формы общения. Подобно тому, как внешние искусственные орудия сделались необходимыми мертвыми придатками к телу, общие представления и понятия стали искусственными орудиями мышления, добавочными придатками к психике. Первоначально эти «проекции» интеллекта предназначались исключительно для практической социальной жизни, а затем стали орудиями и индивидуального мышления.
Как же образовывались общие представления и понятия? Не только в виде метафоры, но на основании более глубокого параллелизма, можно сказать, что эти орудия интеллекта с начала своего возникновения подверглись постепенно такой же обработке, как и орудия материальные. Другими словами, понятия тоже проходили свой древнекаменный век, свой век ново-каменный, прежде чем дошли до нынешнего цивилизованного состояния, подобно предметам машинной техники. Первичные слова можно сравнить с «эолитами», обработка которых была совсем примитивной; и, подобно тому, как эолит с развитием палеолитической культуры приобрел множество граней и дошел до шлифования неолитического состояния, так и примитивные частные представления, взятые в сыром виде из картины экранного мышления, постепенно обрабатывались, приобретали новые грани, доходили до полной шлифовки. Новые грани давали, так сказать, более точный комплекс признаков для содержания понятия; сам же контур словесного орудия как бы соответствовал объему понятия.
Каково же происхождение общих понятий в связи с переходом человека от телепатического общения к речевому? При телепатической передаче какого-нибудь образа, как агент беседы, так и перципиент, оба имели один и тот же конкретный образ предмета; в сознании перципиента, например, возникал тот именно олень, который находился в сознании агента. Между тем, при речевой передаче, слово «олень» вызывает у обоих собеседников различные образы, в зависимости от личного опыта каждого. Поэтому для удобства общения, чтобы каждый беседующий ассоциировал с данным словом именно то, что нужно в целях взаимного понимания, возникал вопрос о соответствующей точности. Смутное представление, связанное с необработанным еще словом «олень», должно было перейти к более четкому общему представлению, при котором несущественные признаки постепенно удалялись. Это обеднение представления давало необходимый полезный результат для речевой связи, но т. к. «обетованный» словесный олень терял частные признаки телепатически передававшиеся, а именно большого или малого, молодого или старого, бегущего или стоящего на месте, – то возникала естественная необходимость в новых словах, указывавших на отдельные индивидуальные признаки. Таким образом, из самой сущности речевого общения вытекало создание новых слов для обозначения действия, состояния, обстоятельств места, пространства, времени, принадлежности и прочих характеристик. Каждое же из этих слов, в свою очередь, должно было подвергнуться своей шлифовке или дальнейшему распаду на новые звуковые сигналы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
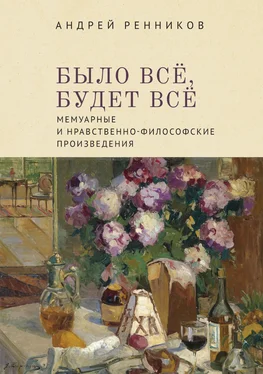
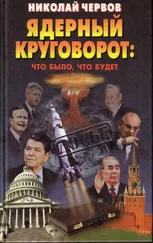

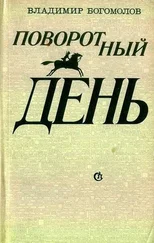




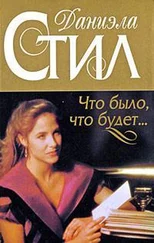

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)