И только с завершением дворца науки вышло не совсем благополучно. Нагромождены этаж на этаж, расширились кабинеты и залы, появились пристройки, служебные помещения. А крыши, венчающей все здание, – нет.
Постепенно меняются контуры, верхний этаж стоит незаконченным, и снуют среди лесов недостроенного дворца фигуры высших авторитетов, что-то меняют, что-то приказывают разрушить и снова начать.
Жизнь коротка, наука бесконечна. Но почему бесконечна? Оттого ли, что истина недостижима, или потому, что не науке постигнуть ее?
За последнее столетие научные работники выросли в целую армию. Рядовые из них по характеру своих занятий мало чем отличаются от мелких чиновников или квалифицированных рабочих на фабриках. А над ними – высшие служащие, обрабатывающее сырье, обобщающие материал, движущие науку вперед.
Чем выше по своему авторитету ученый, тем больше знаний, но больше данных для противоположных решений и выводов. Из таких адептов науки, одни, порывистые, самодовольные, строят новые гипотезы, опускают нежелательные факты, преувеличивают значение желательных. Другие, более скромные, нерешительные, осмотрительные, наоборот: они никогда ни в чем не уверены; для них, от насыщенности знанием, всегда возможны для каждого случая не одна гипотеза, a две, три, или даже тринадцать. Они никогда почти не могут, по совести, твердо ответить на вопрос – да, или нет. На все случаи у них есть классический ответ «ignoramus», а в минуты отчаяния еще более грустный: «ignorabimus» 259 259 Ignoramus et egnorabimus – не знаем и не узнаем (лат.).
.
И при таком разросшемся аппарате исследовательской мысли, после периода ослепления и гордости блестящими успехами, в науке со второй половины прошлого века начался кризис. Только та часть открытий, которая имела практическую ценность, оказала конкретную пользу цивилизации, обогатила технику, дала ей толчок и возможности для дальнейшего продвижения вперед. Отвлеченная же сторона научного мировоззрения стала испытывать значительные потрясения, которые продолжаются до нашего времени и значительно охлаждают пыл самомнения позитивистов и материалистов.
Не только физика и химия, но даже сама всесильная, торжествующая, всегда неоспоримая – математика стала вызывать сомнения в некоторых своих применениях к истолкованию бытия реального мира.
Так, например, величайшее творение Декарта – аналитическая геометрия, вместе с математическим анализом бесконечно малых Ньютона и Лейбница, дали могущественный способ измерения кривых линий, поверхностей и объемов. Но та же аналитическая геометрия, выведенная из пределов реального пространства, стала давать фикции четырех, пяти и вообще «n» измерений, что начало колебать классическое понимание математического протяжения в пространстве. Для четырехмерного пространства можно построить ту же стройную аналитическую систему, что и для реального трехмерного; по аналогии с обычными геометрическими объемами легко получить уравнение четырехмерного шара, эллипсоида, параболоида. Но, конечно, эта аналогия ничему реальному не соответствует и, если кому принесла «пользу», то только спиритам, которые на четвертом измерении стали строить объяснения сверхъестественных потусторонних явлений.
А в связи с этим незаконным расширением значения алгебраических символов на понимание пространства, то же самое произошло и с пониманием времени. В созданной Лагранжем аналитической механике координаты пространства и функция времени были строго разграничены, как факторы совершенно различного смысла; но игра математическими символами перекинулась и в механику: время стали рассматривать, как четвертую координату. И постепенно, через все эти воображаемые временно-пространственные миры, в роде «мира Минковского», математическое толкование вселенной докатилось до нынешней модной теории Эйнштейна, в которой относительными по отношение друг к другу становятся и пространство, и время, и масса тел, и скорость движения.
Вполне родственными этому научному декадансу нужно считать и возникшие с середины прошлого века все «мета-геометрии», начиная с воображаемой геометрии Лобачевского. Отрицая правильность постулата Евклида о том, что в точке вне прямой можно построить только одну линию, параллельную этой прямой, Лобачевский приходит к заключению, что наш пространственный мир обладает «кривизной», притом кривизной отрицательной, как пространство гиперболическое. Вслед за ним начинается мода на сферическое пространство Римана, с кривизной положительной, на пространства Ли и Бельтрами…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

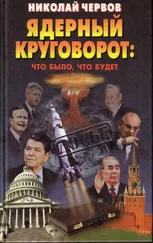





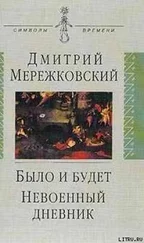


![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)

