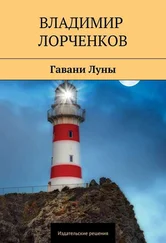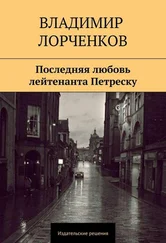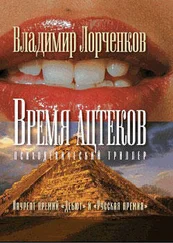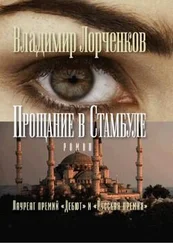— Мне кажется, ошибка русских состоит не в том, что они слишком уважают своих национальных гениев от литературы — во-первых, как можно уважать гения «слишком»? Ему нужно поклоняться, гений это дар богов; во-вторых, вовсе не уважают — а в том, что они руководствовались книгами, вместо того чтобы просто наслаждаться ими как эстетическим феноменом, — разглагольствовал я.
Молодежь протестовала — лишь из вежливости, — для проформы защищая от меня русских классиков, которых они не читали. А я совершал обычную для русского ошибку — начинал говорить всерьез. Это глупо, ведь для европейца беседа — лишь способ провести время. И только жалкий наивный дикарь, вроде русского, жаждет словами своими кого-то обратить. Странно что я, полностью познавший это и владеющий искусством говорения ни о чем, повел себя иначе. Не иначе как магия… колдовство проклятой катарской долины, вина и черных в темноте губ Евы, которые мне так хотелось разжать — словом ли, своими ли губами…
— Впрочем, простите меня за скучные разговоры о русских и их особенностях, в которых я вязну, как доисторический ящер в болоте, — сказал я. — Все это утомительно… не нужно!
— Напротив, — парировал Жан-Поль, — вы нужны, и поэтому вы здесь.
— Но нет! Я хочу отказаться от себя… от своего тошнотворного русского эго… омерзительных перепадов настроения, так присущих нам… Я хочу перестать быть тем, кто я есть, и слиться с Европой, как покойник с землей! — воскликнул я.
— Но Владимир, вы тем и интересны, что вы Иной, — бросила, проходя мимо, Катрин. — Вы привлекаете нас как живой, полный крови человек — пресытившихся всем уставших европейских вампиров.
Я благодарно и устало улыбнулся. Мне уже почти сорок. Меня окружало будущее мира, а я уже перешагивал черту, от которой предстояло идти — пусть и очень долго — вниз. Юноши и девушки. Я не хотел их молодых крепких тел. Я хотел нелепой и некрасивой Евы.
— Вы говорите как очень разочарованный человек, — сказала вдруг миниатюрная девушка в спортивном трико.
— Я бывший писатель, потому что сказал все, что должен был, и, должно быть, мне уже нечего сказать, раз я замолчал, — пожимал я плечами.
— И, как и всем исписавшимся русским, все, что мне остается, это лишь писать эссе о великих да критиковать их по мере сил, — улыбался я.
Им было не смешно, потому что с жадным любопытством французов к тому, что происходит за пределами Шестиугольника — страсть к путешествиям, открывшая нам Канаду и Африку, — они хотели знать лишь что-то забавное… освежающее… не очень глубокое. Новые пряности нужны французам. Думаю, Гоголя бы они приняли как интересного чужака из диковинной страны летающих пирогов и фольклорных новинок, разноцветных лент на женских головах и говорящих чертей. Мрачный русский Гоголь Санкт-Петербурга их бы уже не заинтересовал. Почему? Потому что у европейцев И ТАК уже есть европейские писатели.
— Трудно поверить русскому писателю, который говорит, что русские не… — начала было красотка.
— И правильно! Русским нельзя верить, — менял вдруг я направление, — ведь всякий русский — актер и живет в литературе, и потому надевает на себя маску. Со школы, а то и с рождения… Все, включая и меня.
— Надеюсь, вы понимаете, что я только что сказал, — говорил я, сразу же страхуясь, — потому что я не совсем понимаю.
Вежливые смешки, недоумение на лицах. Слишком много незнакомых имен для них. Сложно, все это чересчур сложно для иностранцев, думал я с досадой. Следовало понизить градус откровений, поговорить о чем-то проще. Двадцатилетним французам, жаждущим социальной справедливости — позже, усевшись в кресла отцов, они забудут о ней — хотелось поговорить о чем-то Насущном. Беженцы? Здравоохранение во Франции? Война в Сирии? Но какое значение это имело для меня? Ведь герои Толстого или Фаулза, в жизнь которых я вхожу каждый день, для меня куда более настоящие, чем, например, люди у костра, которых я вижу неделю и которых забуду спустя месяц, — говорил я, понимая, что мне вроде бы и остановиться следовало. Но я не мог. Взгляд Жан-Поля поощрял меня. Словно на религиозный диспут он меня звал. В результате закончил я, как и полагается битому жизнью ортодоксу, призывом к смирению.
— Нет никакого смысла пытаться изменить что-то в жизни, потому что воды реки, как их ни баламуть, вновь потекут, и потекут вовсе не вспять, — сказал я, пытаясь с досадой сформулировать отсутствие интереса к Текущей жизни и свою прошлую поглощенность литературой. — Артист живет в башне из черного дерева… — продолжил я, лихорадочно подыскивая сравнение, которое привлекло бы ко мне их ускользающее внимание, — ну, или, если угодно, в домике в Кербе. — И то, что происходит с ним самим, в разы важнее самых важных мировых новостей… всего этого медийного дерьма, — бросил я, отдуваясь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу