Этот второй голос как бы рассуждал сам с собой о гнусности и многочисленности человеческих грехов. Нет человеку утешения в испорченности человеческой натуры. В нем нет ничего, кроме тьмы. Темнота окружает его, как скорлупа — зародыш цыпленка. Человек слеп. Да, он не видит. И остался бы слеп, не будь лучей духа святого…
Уже по тому, как примолкли, как замкнулись гимназисты, можно было сделать вывод, что первый день духовных упражнений имел неожиданный успех. Проповедники, специалисты в делах покаяния, размололи подростков старших классов и детишек из младших меж двух жерновов рассуждений. Детям жутко стало от испорченности человеческой природы. И ничего больше им не хотелось, как только услышать утешительные слова о лучах духа святого. Но черед этих слов настанет лишь на следующий день, объявили проповедники. И юношество, хоть и сильно претерпевшее от метлы гнева божия, явилось на другой день в гимназию с такой надеждой, какой не испытывало никогда.
Но в первый день и преподаватели уходили из гимназии в таком же состоянии. А на улице, на ближайшем углу, из рупора городского радио гремели марши Глинковской гарды, потом позывные: несколько тактов из Пятой симфонии Бетховена. Верховное командование вермахта зычно объявляло об очередной победе германского оружия на Западе. Томаш Менкина, мечтавший поскорее очутиться где-нибудь вне досягаемости голоса совести и голоса вермахта, протирал глаза, тер уши.
— Счастье, что кающийся слышит два голоса одновременно, — злобно заметил он в присутствии Дарины. — Та-та-та, та-та-та… И ничего нам не остается, как только каяться в грехах… А верно, Дарина, не хочешь ли принять мою исповедь?
То, о чем он думал, доводило его до бешенства.
— Ты ведь знаешь, я — лютеранка, — ответила Дарина, стараясь взглядом умерить его насмешливость.
Проходя мимо Глинковского дома на Кладбищенскую улицу, они остановились, повернулись друг к другу.
— Я люблю тебя, Дарина, — с яростью выпалил Томаш. Дарина вспыхнула до корней волос, слезы едва не брызнули у нее из глаз. — Но это ничего. Я люблю тебя только платонически, по заповедям святой апостольской церкви.
Слезы все-таки брызнули у нее; она закрыла ладонью рот Томаша.
— Не говори так!
Менкина отвел ее руку.
— Но сплю я с другой. И не раскаиваюсь, не думай.
Дарина согнулась, будто ее ударили в живот. Повернулась и пошла обратно.
А Томаш Менкина зашагал дальше по Кладбищенской улице. Однако в столовую Ахинки не заглянул — все шел и шел, шел уже по Раецкому шоссе, безучастный ко всему, глухой к самому себе. Так дошел он до артиллерийских казарм за городской чертой. Бесконечной казалась ему эта дорога, и приятно было шагать по ней. Какой-то бедняк вывозил на телеге помои со двора казарм, настегивая кнутом жалкого конягу. Томаш пошел назад, сообразив, что оставаться без обеда неумно. В столовой его ждал Лашут. По виду Томаша он понял, что Дарина не придет. Лашут до последней строчки вычитывал «Словака» и теперь подсунул Томашу газету, показывая пластмассовым карандашиком на стихи «режимного» поэта, набранные курсивом; со вздохом произнес заглавие:
— «Гнездо мира…»
По уверениям поэта, их маленький, в конечном счете незначительный народец, никогда не имевший веса у сильных мира сего, претендовал сохранить исконную свою невинность.
Лашут и Томаш одни остались в столовой. Их обслуживала сама пани Ахинка. То прибор принесет, то разгладит скатерть на углу стола… Движением своим она заполняла комнату. Тело у нее так крепко сбито, что чуть не скрипит, как новые сапоги. Лашут следовал за ней взглядом. Женщина подсела к Менкине — воспользовалась тем, что не было с ними Дарины. Или по-матерински пожалела его. А в Томаше не было ни капли радости или желания. Он машинально обнял то, что ему подставили. Лашут смотрел глазами круглыми, как у маленького незрячего зверька. У Ахинки занемела талия под рукой Томаша. Но в этом прикосновении ничего не чувствовалось. Томаш больно ущипнул ее.
— Что случилось? — озабоченно спросила его Ахинка. — Может, пан учитель, вы несчастны?
Но Томаш не пожелал разговаривать. Ахинка ушла на кухню.
— Что случилось, Томаш? — удивленно повторил Лашут ее вопрос.
3
Паулинка Гусаричка была ровесницей Томашу, вместе ходила с ним в школу и была его первой любовью. Родителей ее скосила после войны испанка, свирепствовавшая в Кисуцком крае. Птичка-сиротинка не сеет, не жнет — Паулинка зимой кормилась по дворам добрых людей, летом собирала лесные плоды. Когда вошла в разум, стала носить их на продажу во Фридек, в Тешин. Рано пустилась в люди, как и большинство кисуцких горцев. Девушка, наряженная, как кукла, в кисуцкий народный костюм, нашла себе службу в семейном доме и поселилась в чужом краю. Встретила парня среди остравских шахтеров. Стала с ним жить «на веру» или «сожительствовать», как сказано в полицейских бумагах, при которых ее по этапу отправили восвояси. Тогда из Словакии выпроваживали чехов в Чехию, а из Чехии изгоняли всех «дротарей» и разносчиков галантерейных товаров. Изгнали среди них и Паулинку Гусаричку — как бы не стала обузой там, где жила. Мужа ее арестовали и расстреляли как коммуниста. Сыночка, взращенного ею, не отдали — он считался уже подданным рейха. Только то дитя, что носила она во чреве, еще не принадлежало рейху; его да узел с пожитками и разрешили ей пронести через границу. Вернулась Паулинка в родную деревню. И как стала ходить по добрым людям, завернула по знакомству к Маргите Менкиновой — да и расплакалась горько.
Читать дальше
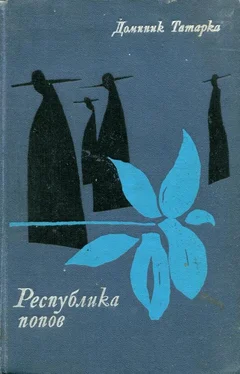





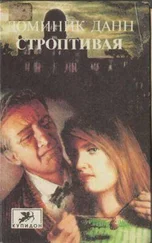


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


