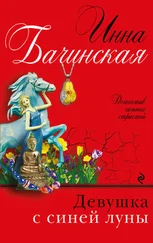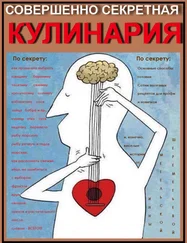Наступила и очередь гостей, — помню, когда Рина Зеленая знакомила тесное застолье со своими воспоминаниями о Корнее Ивановиче, Тарковский тихо перешептывался с Липкиным. Нет-нет, я чувствовала на себе, как мне казалось, непримиримо-обиженный взгляд Тарковского, ведь сидели лицом к лицу.
В тот день народу было особенно много. И хотя Лидия Корнеевна всегда предлагала: “Курите за столом”, — щадя ее, на перекур выходили в коридор. Но в то первое апреля выйти в коридор не представлялось никакой возможности. И самые бесстыжие курильщики редко, но закуривали, воспользовавшись самоотверженным предложением хозяйки, плохо переносящей табачный дым. Этими бесстыдниками оказались я, Ильина и Тарковский. А Мария Сергеевна Петровых, рядом со мной, то прикладывала ко рту незажженную сигарету, то относила ее ото рта, делая едва уловимое движение губами, словно вдыхая и выдыхая дым. При этом ее нижняя губа была слегка оттопырена и придавала доброму лицу Петровых надменное выражение. Такая надменность — обычный знак сердитости Петровых. Не коря меня, она, видимо, была недовольна тем, что я обкуриваю Лидию Корнеевну.
В небольшом перерыве между обедом и чаем завсегдатаи как-то перегруппировались, часть из них уехала, стало попросторней. Пришло время стихам. Помню, что Тарковского попросили почитать первым. Первым — он отказался: “Здесь помимо меня есть и другие, хорошо рифмующие” — тон был капризен, но не смысл. Тарковский, который написал: “Наблюдать умиранье ремесел, / Все равно что себя хоронить”, к владеющим ремеслом относился уважительно. Эта капризность лишь мало его знающим могла показаться обидной, тем более что он тут же взмолился: “Марусенька, Марусенька, начни ты!”
К моему изумлению, Мария Сергеевна, никогда не читавшая стихов при таком скоплении народа, даже наедине читала не всякому, — крайне избирательно, вдруг поднялась. Я, потрясенная этим фактом, не помню, ни что она прочла, ни кто читал после нее, Липкин или я. Последним прочел свои стихи Тарковский. Какие — также не помню. Запомнилось одно: после эмоционально не окрашенного чтения Тарковского слова песен Новеллы Матвеевой померкли. А ведь я любила ее песни и когда-то, в молодости, слушала Новеллу с вечера и до утра, но это другая история.
По дороге домой, а везла в своем “жигуленке” Рину Зеленую, Карякина, Липкина и меня Наталия Ильина, о которой по-доброму тоже можно вспомнить как о “бабе за рулем”, я думала о Петровых (только что моя память уточнила: ее с Тарковским молчаливое, долгое объятие на “демаркационной линии” имело место ранней весной 75-го). Да, я ехала домой и думала о Марии Петровых и Арсении Тарковском, я уже знала, что летом в Голицыне они — неразлучны. Но когда я проведывала в Москве Марию Сергеевну, она Тарковского лишь однажды упомянула:
— Арсений пишет ангелоподобные стихи. — И на ее лице появился тот румянец, который нежно вспыхивал, если она приходила в замешательство. В “Жигулях” я догадалась: наверное, Тарковский так бранит меня и мои стихи, что ей неловко было со мной вообще заводить о нем беседу. И я с ней об Арсении Александровиче не заговаривала, понятно, ни звука о том, как он высказывался в ее адрес, пока они не помирились. Кто-кто, но кроткая и мягкая Мария Сергеевна Петровых — непередаваемо горда. Она даже и узнав об ужасной гибели Мандельштама, не могла ему многого простить, а не только то, что Мандельштам назвал на допросе ее имя среди других, слышавших от него стихи о Сталине “Я живу, под собою не чуя страны”. Когда бы и кто бы (так случилось с ленинградским критиком Македоновым, неосмотрительно мною познакомленным с Петровых) ни заговаривал с Марией Сергеевной об ее отношениях с Мандельштамом, она, чуть выдвигая нижнюю губу, замыкалась. О поэзии Мандельштама — сколько угодно, но не… Видимо, поэты для стихотворцев любых уровней — всегда живы. Однако я, по-моему, уже начинаю свои воспоминания о Петровых. С ней-то я дружила с 68-го куда тесней и дольше и знала ее, как мне думается, куда лучше и глубже, чем Тарковского.
А 1 апреля 1982 года Марии Петровых уже с нами быть не могло. Она скончалась 1 июня 1979 года. И вообще было немноголюдно: “Одних уж нет, а те далече”. Особенно — “а те далече” чувствовалось на первоапрельском, несмотря ни на что, празднике в переделкинском доме-музее. Я вышла в коридор покурить перед открытой дверью на квадратное, с крышей, крыльцо. В противоположном конце коридора на ступеньках деревянной лестницы, ведущей в комнату и библиотеку Корнея Ивановича, курил Тарковский.
Читать дальше