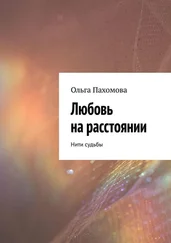Комиссар молчал, и я больше ничего не добавила — мы просто смотрели друг другу в глаза. Я даже не ожидала, что смогу закончить свою речь спокойным и твердым голосом, не утратив невозмутимости. Наконец-то мне удалось освободиться от всего терзавшего меня столько времени. Внезапно я почувствовала полное изнеможение. Я устала от того, что мне пришлось вынести по вине бессовестного негодяя; от жизни в постоянном страхе. Устала от гнетущей меня вины, заставлявшей склоняться под тяжестью этого груза подобно бедным марокканским женщинам, которые, медленно волоча ноги, согнувшись и закутавшись в покрывала, тащили на спинах хворост, финики, детишек, глиняные кувшины и мешки с известкой. Я устала от страха, унижений и мытарств в чужой стране. Я была измучена, обессилена, истощена, но готова бороться, чтобы выбраться из затянувшей меня трясины.
В конце концов комиссар нарушил молчание. Он поднялся с кресла, я последовала его примеру и поправила юбку, тщательно разгладив образовавшиеся складки. Дон Клаудио взял свою шляпу и повертел ее в руках, сосредоточенно разглядывая. Это была уже не та мягкая летняя шляпа, которую я видела на нем несколько месяцев назад, а осенняя фетровая темно-шоколадного цвета, и он крутил ее с таким видом, будто хотел получить какой-то ответ. Перестав теребить шляпу, комиссар наконец заговорил:
— Хорошо. Я согласен. Если против вас не всплывут явные улики, я не стану раскапывать, каким образом вам удалось раздобыть деньги на все это. Так что можете работать спокойно и заниматься делами своего ателье. Я не стану вас беспокоить. Может быть, все действительно наладится, и это избавит от проблем нас обоих.
Дон Клаудио больше ничего не сказал и не стал ждать моего ответа. Произнеся последнее слово своей краткой речи, он кивнул мне на прощание и направился к двери. Через пять минут в ателье пришла фрау Хайнц. Я потом так и не вспомнила, какие мысли роились в моей голове в тот промежуток времени, отделивший один визит от другого. Мне запомнилось лишь, что, когда немка позвонила в дверь, я пошла ей открывать с ощущением, будто с моей души свалился огромный камень.
16
Этой осенью у меня появились и другие клиентки — в основном богатые иностранки: расчет Канделарии оказался верным. Немки. Несколько итальянок. Были и испанки — главным образом жены предпринимателей, поскольку для чиновников и военных времена стояли слишком неспокойные. Богатые красивые еврейки из сефардов, говорившие на своем мелодичном языке хакетия, произнося странные и непривычно звучащие испанские слова.
Ателье постепенно завоевывало популярность, о нем стали говорить в городе. Клиенты приносили мне деньги: новые песеты, французские и марокканские франки, монеты «хасани». Все это я хранила в небольшом сейфе, спрятанном под замком во втором ящике моей прикроватной тумбочки. В последний день каждого месяца я относила деньги Канделарии. Она откладывала стопку песет на повседневные расходы, а остальное, компактно свернув, ловко прятала на груди. Неся выручку за месяц на своем пышном теле, Канделария мчалась в еврейский квартал в поисках менялы, у которого можно было выгодно обменять деньги. Через некоторое время, тяжело дыша, она возвращалась в пансион и вытаскивала из того же тайника на груди скрученные в трубочку британские фунты.
— Это надежнее всего, детка, надежнее всего; эти англичане — самые хитрые. Песеты Франко мы не будем копить, потому что, когда он со своей армией проиграет войну, эти бумажки не сгодятся даже на то, чтобы ими подтереться. — Потом она делила деньги согласно уговору: половина — мне, половина — ей. — Дай нам Бог никогда не бедствовать, детка.
Я привыкла жить одна, спокойно, без страхов. Заниматься своим ателье и рассчитывать только на себя. Я много работала и мало отдыхала. Объем заказов не требовал дополнительных рук, я справлялась сама. Но для этого ни минуты не сидела без дела: постоянно что-нибудь придумывала, кроила, шила или гладила. Иногда я выходила из дому, чтобы выбрать ткани, заказать обтяжку пуговиц или купить катушки с нитками и застежки. Больше всего мне нравилась пятница: в этот день я ходила на площадь Испании — марокканцы называли ее «Федан», — чтобы полюбоваться великолепным зрелищем, когда халиф, направляясь в мечеть, выезжал на белом коне из своего дворца, под зеленым зонтом, в окружении мавританских солдат в удивительной форме. Потом я прогуливалась по улице, уже переименованной в честь генералиссимуса, доходила до площади Мулай-эль-Мехди и проходила мимо церкви Нуэстра-Сеньора-де-лас-Викториас, которую война наполнила трауром и молитвами.
Читать дальше