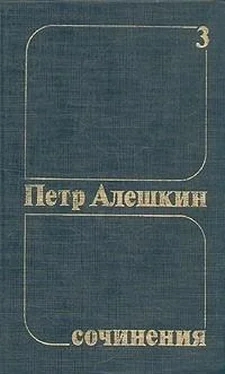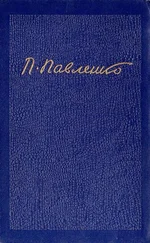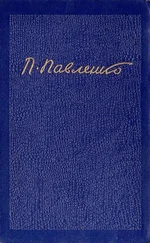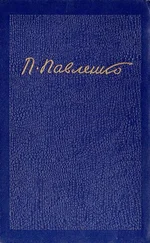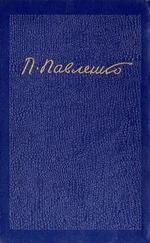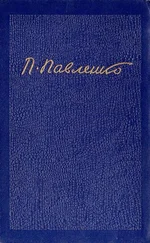— Не капал я, говорю, — перебил он. — Может, сама капнула!
— Я не капала! Это ты, раззява, ходишь, галок ртом ловишь…
И поехала: гыр–гыр–гыр! Знакомое все, но удержаться невозможно, подмывало рявкнуть, заткнуть рот. Терпение лопнуло, рявкнул:
— Да заткнись ты, наконец!
Леночка словно и ждала этого.
— А-а! — взорвалась она. — Я в своем доме молчать должна!..
Она — матом, он — матом! Дико, гадко, мерзко вспоминать. Тогда он не пил, не умел топить тоску в вине. Научился быстро. Ясно было обоим, что жизнь совместная не получается, но Лена решила завести ребенка и родила дочку. Стихи почему–то перестали приходить к нему. Как отрезало! Олег запил, возвращался домой поздно. Лена не пускала его в квартиру. Скандалы, скандалы! Однажды она вызвала милицию, написала заявление. Вышел он через пятнадцать суток, и домой не вернулся, сошелся с подвернувшейся под руку в пивнушке беспутной бабенкой, которая была старше его лет на десять. Пили вместе, пока она не объявила, что беременна, и не потребовала оформить брак. В то время как раз Звягин в Сибирь собрался, и Олег бежал с ним из Тамбова. Алименты перестал платить и Василисе. Муж есть! И теперь, вспоминая о Дениске, переживал — его–то за что наказывает?.. Нужно расплачиваться…
Давно уже кран–путеукладчик прошагал двадцатипятиметровыми звеньями по насыпи мимо поселка Вачлор, оставляя позади себя бесконечную решетчатую ленту. Монтеры пути балластировали, выпрямляли путь, готовили к эксплуатации.
И пришел день первого поезда.
С утра у поселка приподнятое настроение. Много машин скучилось у конторы. Две черные «Волги» сверкают лаком на осеннем солнце под березами, которые шелестят на ветру пожелтевшими листьями, изредка роняют их на капоты, крыши необычных здесь машин. Над конторой, над клубом, над магазином колышатся, хлопают на ветру красные флаги. Особенно звонки сегодня голоса детей, светятся наглаженные галстуки из–под распахнутых курточек. И собаки возбуждены, бегают по улицам от одной группы людей к другой, понимают, что что–то необычное случиться должно, раз столько людей на улицах, столько шума и смеха. Чем ближе к двенадцати часам, тем больше людей подтягивается к временному вокзалу, небольшому зеленому домику. Толпа возле него растет, появился духовой оркестр.
Только Звягину грустновато сегодня. Он давно решил, что вернется домой, когда в поселок придет первый поезд. Звягин думал, что это будет самый радостный день в его жизни, но почему–то чем шумнее, многолюднее становились улицы, тем грустнее ему, как будто он в чужом поселке наблюдает чужой праздник. С горечью сознавал он, что уже не хозяин здесь, гость. Он оформил отпуск за два года с последующим увольнением. Трудовая книжка лежала в кармане, ничто больше не удерживало в поселке. Он неспешно обошел улицы, оглядывая дома, построенные его руками, вышел на берег озера, сел на перевернутую вверх дном голубую лодку под березкой. Он не сразу узнал, что это одна из тех двух березок–сестричек, которые, по словам Колункова, выбежали встречать десантников: белая когда–то кора березки ободрана, грязная, а от другой березки остался высокий острый пенек. Год назад белые, доверчивые выскочили навстречу, а мы их встретили, — усмехнулся горько Звягин. Да, всего год назад прилетели. Всего год, а изменилось как здесь все, не узнать. Но и работы впереди, дай Бог. Лет пять — семь постоянный поселок строить, вокзал. Звягин поднял с днища лодки отшумевший свое лист и стал вертеть его в руке, слушать, как печально плещутся возле ног рыжеватые волны. Задумался и не расслышал, как подошел Павлушин.
— Прощаешься?
Звягин поднял голову, оглянулся.
— Прощаюсь! — И снова отвернулся к озеру, заговорил: — Ты знаешь, Андрей, тридцать лет почти копчу я землю, а взгляну назад–вижу, жил–то я по–человечески два года только… Все было! И в болоте тонул с трелевщиком, и пальцы обмораживал… Трудно было, а покидать грустно!.. Была бы здесь Валя… — Звягин замолчал, недоговорив, и вздохнул. — Знаешь, Андрей, чего я сейчас больше всего боюсь? Приеду домой, а жена там с другим. Кому тогда будут нужны мои тысячи? А ведь может такое быть, а? Ведь может…
— Письма–то она тебе писала, — сказал Павлушин.
— Писала… Написать, сам знаешь, что угодно можно!.. Я зимой письмо от соседа Васьки Кулдошина получил. Знаешь, сколько я его на груди носил, распечатать не мог. Думал, открою, а там о Валюшке…
— Ну и что там было?
Читать дальше