Лица у всех напрягаются — только б не было новых допросов. Профессор допустил ошибку. Истратил свою дисциплинарную власть на невинного студента, а Федр — виновный, враждебный — по-прежнему на свободе. И чем дальше — тем свободнее. Раз не задавал вопросов, его никак не срежешь. А теперь он видит, как отвечают на вопросы, — и вообще, конечно, не станет их задавать.
Простодушный студиозус смотрит в стол, покраснел, руками прикрыл глаза. Ему стыдно, а Федр в гневе. Нигде, никогда не разговаривал он так со своими студентами. Вот как, значит, учат классике в Чикагском университете. Теперь Федр знает профессора философии. Но профессор философии не знает Федра.
Серые дождливые небеса и утыканная знаками дорога опускаются в Кресент-Сити, Калифорния, — тоже серый, холодный и мокрый, и мы смотрим и видим воду — океан — вдали, между пирсами и зданиями. Я помню: все эти дни океан был нашей великой целью. Заходим в ресторан с причудливым красным ковром, причудливым меню и крайне высокими ценами. Мы здесь одни. Едим молча, рассчитываемся и снова пускаемся в путь — уже на юг, холодный и туманный.
На следующих семинарах опозоренного студента нет. Что уж тут удивляться. Класс абсолютно заморожен — это неизбежно при таких инцидентах. На каждом семинаре говорит только один человек — профессор философии; он только и делает, что говорит — лицам, обратившимся в маски безразличия.
Похоже, профессор вполне понимает, что произошло. Раньше он поглядывал на Федра со злобой, теперь — со страхом. Кажется, догадывается: в классе такая обстановка, что придет время — и с ним обойдутся так же, сочувствия он ни от кого не дождется. Он уступил свое право на вежливость. Уже никак не предотвратить ответного удара, только не подставляться.
Но чтобы не подставиться, он должен стараться изо всех сил, формулировать точно и верно. Федр и это понимает. Храня молчание, он будет учиться, обстоятельства располагают.
В то время Федр занимался прилежно, схватывал все крайне быстро и держал рот на замке, однако неверно было бы считать его даже отдаленно хорошим студентом. Хороший студент ищет знаний честно и беспристрастно. Федр — отнюдь. Он точил топор, и требовалось ему лишь то, что могло служить оселком, и то, чем можно разметать преграды, которые мешают точить. Ни времени, ни интереса к чужим Великим Книгам у него не было. Он пришел, чтобы написать собственную Великую Книгу. К Аристотелю он относился несправедливо до крайности — потому же, почему Аристотель был несправедлив к своим предшественникам. Те поганили то, что он хотел сказать.
Аристотель поганил то, что хотел сказать Федр, ибо Аристотель помещал риторику в до безобразия незначительную категорию своего иерархического порядка вещей. У него она была ветвью Практической Науки и служила каким-то придатком другой категории, Науки Теоретической, — ею Аристотель по преимуществу и занимался. Как ветвь Практической Науки она была всячески изолирована от Истины, Блага или Красоты: те служили только доводами в споре. Стало быть, Качество в аристотелевской системе полностью отлучено от риторики. Вот это презрение к риторике — помимо ужасающего качества риторики самого Аристотеля — столь полно отчуждало Федра, что он презирал и высмеивал грека, что бы тот ни сказал.
Но это ладно. Много веков Аристотель сам напрашивался исключительно на насмешки и получал их, и охотиться на его явные глупости — удовольствие так себе, как бить лежачего. Не будь Федр столь пристрастен, он бы научился каким-нибудь ценным приемам — Аристотель ведь умел цеплять новые области знания; собственно говоря, для того и основали Комиссию. Но не будь Федр столь пристрастен в своем стремлении найти, откуда начать работать с Качеством, он бы досюда и не дошел, поэтому у него бы все равно ничего не получилось.
Профессор философии читал лекции, а Федр слушал и классическую форму, и романтическую поверхность излагаемого. Судя по всему, профессору неуютнее всего было с «диалектикой». Хоть с точки зрения классической формы Федр и не мог сообразить, почему, его растущая романтическая чувствительность подсказывала: он идет по следу. Добычи.
Диалектика, значит?
С нее начиналась книга Аристотеля — и начало это было загадочнее некуда. «Риторика — искусство, соответствующее диалектике» [38] Кн. I, гл. 1.
, — говорилось там, словно это важнее некуда, а вот почему это так важно, никто не объяснял. Первое же замечание сопровождалось рядом других разрозненных утверждений, от которых складывалось впечатление, что многое недосказано — или материал неверно собрали, или наборщик что-то пропустил. Сколько бы Федр ни читал, ничего не срасталось. Ясно лишь то, что Аристотеля очень парило отношение риторики к диалектике. На слух Федра тут звучала та же неуверенность, что и у профессора философии.
Читать дальше
![Роберт Пирсиг Дзэн и искусство ухода за мотоциклом [litres] обложка книги](/books/427160/robert-pirsig-dzen-i-iskusstvo-uhoda-za-motociklom-cover.webp)
![Роберт Баден-Пауэлл - Искусство скаута-разведчика[Scouting for boys ; Искусство Разведки для мальчиков]](/books/70572/robert-baden-pauell-iskusstvo-skauta-thumb.webp)

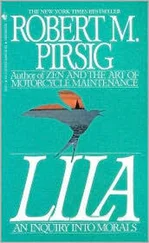

![Даниэлла Постель-Виней - Французское искусство домашнего уюта [litres]](/books/395987/daniella-postel-thumb.webp)
![Рольф Добелли - Искусство ясно мыслить [litres]](/books/397316/rolf-dobelli-iskusstvo-yasno-myslit-litres-thumb.webp)
![Рейчел Рой - Оденься для успеха [Искусство выглядеть стильно] [litres]](/books/407316/rejchel-roj-odensya-dlya-uspeha-iskusstvo-vyglyadet-thumb.webp)



