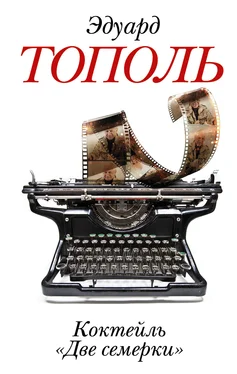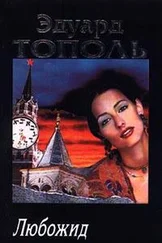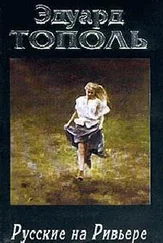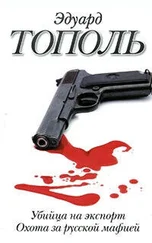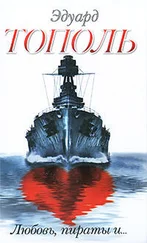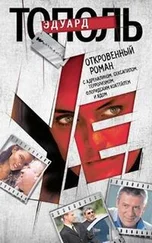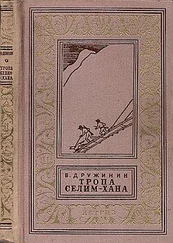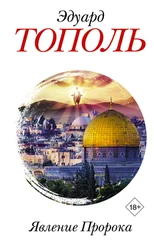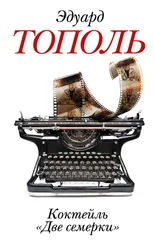– Четыре!
– Что – «четыре»?
– Плохих четыре, – сказала Громыко. – И то только из-за нашего доверия к вам, Володя.
Я вышел из Госкино и выругался матом.
– Да брось ты! – сказал Роговой, обнимая меня за плечи. – Не расстраивайся! Сделай им эти поправки – лишь бы они запустили сценарий в производство. А уж я сниму все, что мы захотим!
Но я уже знал эти режиссерские «майсы». Как говорили мне киноклассики Фрид и Дунский, каждый фильм – это кладбище сценария, а если еще и я своими руками вырежу из него целую сюжетную линию…
Я молча сел в свой «жигуленок» и, проклиная этих партийных громык, остервенело помчался в Болшево. По дороге, уже в Подлипках, сообразил, что к обеду в Доме творчества опоздал, нужно купить себе хотя бы сыр или колбасу, и при въезде в Болшево свернул к продмагу. Продавщице за высоким прилавком оказалось лет восемнадцать – тоненькая русая кукла с грустными зелеными глазками сказочной Аленушки. Почему я всю первую половину жизни гонялся именно за этим типом женской красоты, описано в «Любожиде», «Русской диве» и «Московском полете». Еврейский мальчик, воспитанный на русских сказках. Я посмотрел в эти глазки, затянутые тиной провинциальной подлипской скуки, и понял, куда сегодня ночью уйдет мое остервенение. Секс и работа – лучшие громоотводы при любой злости.
– Вы когда заканчиваете работу? – спросил я у продавщицы.
– А что? – лениво ответила она. С такими вопросами к ней подваливал каждый третий покупатель.
– Вечером в Москве, в Доме кино, французский фильм с Ивом Монтаном. Хотите, я заеду за вами?
Она посмотрела на меня, на мою машину за окном магазина и снова на меня. При этом ряска провинциальной скуки исчезла из ее глаз и мне открылись такие глубины…
– Я заеду ровно в семь, – твердо сказал я, не ожидая ее ответа.
Однако в семь ноль пять, когда она вышла из магазина, сердце упало у меня в желудок: она была хромоножкой! Аленушка из русской сказки – с кукольным личиком, с русой косой, с зелеными глазами русалки – шла ко мне, припадая на короткую левую ногу, как Баба Яга.
Я заставил себя не дрогнуть ни одним лицевым мускулом. Я вышел из машины, жестом лондонского денди открыл ей дверцу и повез в Дом кино на просмотр французского фильма, в котором Ив Монтан играет коммуниста-подпольщика, скрывающегося от немецкой полиции в квартире своего товарища по подпольной борьбе. Дочь этого товарища, семнадцатилетняя Клаудиа Кардинале, влюбляется в него в первом же эпизоде и потом весь фильм они занимаются сексом – с утра до ночи в отсутствие отца этой девочки и даже ночью, когда он сладко спит, устав весь день печатать антифашистские прокламации. При этом то была далеко не порнуха и даже не эротика в плоском смысле этого слова, о нет! То была эротическая кинопоэма, чистая, как свежие простыни, которыми Клаудиа Кардинале каждый раз медленно, очень медленно, почти ритуально застилала широкую отцовскую кровать перед тем, как в очередной, сотый раз отдаться на ней своему возлюбленному коммунисту в совершенно новой, еще не виданной зрителем позе. Хрен их знает, как эти французы умудряются даже при сюжете, родственном «Молодой гвардии», создать «Балладу о постели»! Громыко на них нет, вот в чем дело!
Нужно ли говорить, что в ту ночь я был болшевским Ивом Монтаном, а моя хромоножка – подлипской Клавой Кардинале? Но дело не в этом. А в том, что в короткие моменты отдыха эта Аленушка, лежа на моем плече, рассказала мне о своем детстве. О том, как ее отец-алкоголик являлся по ночам домой в дупель пьяный и с порога орал ей, восьмилетней, и ее матери – железнодорожной проводнице: «Подъем! Песни петь будем! Вставай, Аленка, и запевай! Мою любимую – запевай! А не будешь петь, я твою мать на твоих глазах иметь буду!»
И восьмилетняя девочка, дрожа в ночной сорочке, пела отцу его любимые «Расцветали яблони и груши» и «На позиции девушка провожала бойца». А когда ей исполнилось четырнадцать, он спьяну полез ее насиловать, и она выпрыгнула в окно с третьего этажа и сломала ногу…
Ровно через неделю мы с Роговым принесли в Госкино мой исправленный сценарий. И та же Громыко стала листать его при нас, приговаривая:
– Вот теперь другое дело… Пионеры идут колонной – очень хорошо… И пятого бандита нет, спасибо…
И только на сорок восьмой странице она запнулась на новом тексте – там был совершенно новый эпизод. Там пьяный отец одного из пацанов-хулиганов врывался среди ночи в свою квартиру, из которой он уже пропил всю мебель, и орал с порога жене-проводнице и восьмилетней дочке: «Подъем, пала! Вставай, Аленка, и запевай! Мою любимую – запевай! А не будешь петь, я твою мать на твоих глазах драть буду!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу