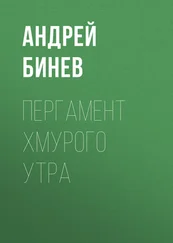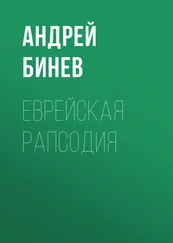Потом арестовали ее непосредственного начальника, старого уже человека. А за ним, с разницей в полгода, еще двоих взяли: латыша, из стрелков, и еще одного – обрусевшего немца из Казани, в прошлом правого эсера и боевика.
Все трое оказались врагами. Сказали, что они продавали иностранным разведкам данные на секретных сотрудников, а конечной целью своей имели – реставрацию царизма. Маша особенно переживала за того своего начальника, бывшего питерского рабочего. Это был мягкий и тихий человек, с нетерпением ожидавший пенсии. Он очень задорно смеялся в усы, смех у него шелестел, будто кто-то ногами разгребал сухие листья, а глазки за стеклами очков при этом делались маленькими, как у ребенка. Он любил вспоминать, как познакомился со Сталиным, еще в дореволюционном подполье. Водил его по Питеру, скрывая от шпиков. А тот обижался – что я вам мальчишка какой-нибудь! Сами, мол, с усами! И вот оба состарились. Один в самом Кремле, а другой, …а другого вдруг разоблачили, как врага, и расстреляли. Оба старых товарища были с усами, то есть оба «сами с усами»! Впрочем, тогда очень многих взяли, и усатых, и безусых.
Вот она теперь и решила, что коли так запросто своих хватают ни за что, то почему бы не нарушить инструкцию, не взять на службу того, кто ей самой понравился. Все равно ведь всем одна дорога, виноват, не виноват! А тут, может быть, хоть немного своего счастья достанется, хоть ненадолго.
Еще она думала, что если бы второй муж ее матери Илья Петрович Кастальский, сельский доктор, из старорежимных, не умер бы от воспаления легких лет девять назад, то и его бы непременно за что-нибудь взяли. Потому что он лечил всех – для него врагов не было, были только больные. А в их уезд тогда многих ссылали. Значит, этих «многих» и лечил. Его бы точно арестовали.
Своего отца Маша не помнила. Он сильно пил, а однажды вдруг взял да повесился. Ни записочки, ни даже намека какого-либо не оставил. Вроде бы и пьяным в тот самый страшный для себя час не был. Мать через год вышла замуж за Кастальского, а тот удочерил маленькую Машу, дал ей свое имя в отчество и, разумеется, фамилию. А так она была бы по отцу Матвеевной, а по фамилии Клуниной. Мария Матвеевна Клунина, дочь рабочего-металлиста, пьяницы и самоубийцы. Мама говорила, что она на него внешне очень похожа – он тоже был невысокий, круглолицый, кряжистый, низкозадый, с короткими ногами, крепкими, чуть вывернутыми наружу икрами. И по характеру такой же – чуть что, краснеет, глаза на мокром месте, полные губы дрожат. Но и сердиться, правда, умел. Орет благим матом, кулаком по столу гремит, топает ногами, брызжет слюной. Это, пожалуй, единственное, что Маше было несвойственно. Это ей от него не досталось. Тут она, скорее, в маму пошла – умела сдерживаться, голоса никогда не повышала. Только могла от обиды или раздражения долго сопеть и смотреть исподлобья. Отходила она с трудом, делая над собой нечеловеческие усилия. Очень стыдилась своей злопамятности, считая, что она как раз досталась ей от отца – только тот все выливал в ор и в мат, а она копила в себе. Маша замыкалась и подолгу размышляла сама с собой. Жалость к людям, которые ей нравились, становились следствием таких размышлений, и поэтому она хранила в себе это редкое чувство. Ведь оно, должно быть, единственное спасало ее от генов несдержанности отца. Вот ведь к чему они привели! Взял да накинул на шею петлю ни с того ни с сего. Рядом, наверное, никого не оказалось, ни ком бы он сорвал зло. Видно, и пил потому что, когда был трезвым, на весь мир скалил зубы.
Так что она всех жалела – и отца, так рано ушедшего и даже свою дочь после смерти потерявшего, и доктора Кастальского, который тоже очень вовремя умер, а то бы сидел или даже был бы расстрелян. И вот теперь пожалела этого увальня – Павла Тарасова. Стыдно было немного, что для себя пожалела. Но ведь все не без греха!
Она действительно часто думала о себе с раздражением, что личность она непонятная, какая-то даже двойная. Вроде бы, человек-заплата. Доктор Кастальский так называл людей, у которых в характере присутствовало все в большом количестве – и дурное, и светлое. Основа, мол, добротная, а со временем она протирается, рвется, и на дыру нашивается уродливая заплата, а таких заплат ведь все больше и больше будет с годами. Каждая из них обескураживает безвкусицей цвета и уродством формы. Потом заплат становится столько, что уже никто не может понять, какой была начальная материя.
Этого Маша больше всего боялась – чтобы она сама не исчезла за вновь приобретенными привычками, идущими от страха или даже просто от дурного опыта. Ей порой казалось, что этот опыт, как и страх, приходят из ее службы. Но она искренне пряталась за приказами, распоряжениями, в том числе, строго секретными, за чужой, очень важной, ответственностью за ее исполнительную душу, и постепенно эта боязнь отступила, скрылась за ее же посеревшей от кабинетной работы кожи, за поблекшими глазами. И вот теперь, неожиданно, эта кожа дала трещинку, а из-под нее несмело показалась свежая, розоватая пленочка, и глаза вдруг ожили. Ее взволновала близость в той тесной комнатушке с Тарасовым, его незнакомые, волнующие запахи, его наивное деревенское смущение, ее собственный испуг. Это все насторожило и в то же время обрадовало, что не на все теперь наложат заплатки доктора Кастальского, останется что-нибудь розовое, свежее, девственное.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу