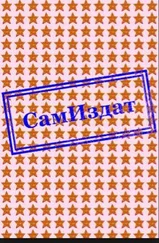1 ...7 8 9 11 12 13 ...61 — Ой, это мне?! Какая прелесть! Спасибо вам огромное!
В ответ женщина заворковала на неизвестном, мягком наречии, изливая из глаз, как апрельское небо, свет бесконечной доброты: «Притынь де сластыниченнё! Плитти! Плитти!» Только в этот момент Янка поняла, что все вокруг говорят на непонятном языке: «Где я? Говор не английский и уж точно не немецкий. Напоминает французский, но нет, не он. Что-то всё вокруг чересчур чисто и благостно. Кустики фигурно подстрижены. Газон ровнёхонький — не в российских традициях. Доброжелательные, счастливые люди. Подозрительно!» Рассеянные догадки прервал ещё более странный эпизод. Плавно, словно скользя по облакам, распахнув руки для объятий, к Янке приближался статный юноша с медовыми глазами, похожий на ангела. Пока белокурый красавец крепко обнимал Янку, как родную, смущённая девушка напряжённо перебирала в памяти, где она могла видеть его раньше. Это красивое лицо было ей, безусловно, знакомо, знаком запах и мягкие прикосновения, знакомо ощущение покоя, исходящее от него, но тем стыднее не вспомнить имени столь близкого человека. Может, когда он заговорит, то, услышав голос, всё разрешится — и в памяти всплывёт родное имя. Как будто прочитав Янкины мысли, прекрасный незнакомец обратился к ней, ласково улыбаясь:
— Девушка! Э-э, бля, бомжиха, что ли? Давай вставай. Развалилась тут!
В тамбуре было уже светло и от того ещё более грязно и мерзко. Над Янкой в праведном гневе нависли сердитые пассажиры, желающие выйти быстрее, чем остановится поезд.
Когда сквозь запылённые стёкла стал угадываться силуэт родного города, от Янкиной затравленности, навеянной внезапным пробуждением, не осталось и следа.
«Мой город! Мой вокзал! Я дома! Ура!!!» — ликовала она, едва сдерживаясь, чтоб не закричать. Подхватив пожитки, Янка спрыгнула на перрон и полетела по родным улицам, пронизанным золотыми рассветными лучами, не замечая коротеньких травинок, торчащих из расстёгнутых босоножек. И уже не увидела, как к вагону подъехала неотложка, как грузили безжизненное тело проводницы. И не узнала бы теперь её рябое лицо, перекошенное инсультом, если бы не знакомые до боли серёжки — подарок бабушки.
Дома всё по-прежнему, будто Янка не уезжала никуда не было в её жизни этих состаривших душу дней. Вид родного жилища отрезвил патриотический пыл: «Зачем так стремилась сюда? Никому я не нужна, даже здесь». С нарастающим унынием она обвела взглядом изученные до отвращения детали интерьера. Обувь в коридоре расставлена по ранжиру и назначению. Тарелки в кухне — в неизменном иерархическом порядке. Посудная тряпочка, свёрнутая непременно рулончиком, покоится справа от плиты и нигде больше. В дизайне гостиной так же безраздельно властвует домострой. Многочисленные вазочки, коробочки, шкатулочки — каждая на своём месте. Не дай бог сдвинуть на сантиметр! Книги непременно по цвету обложки. Диванные подушки выстроились по росту длинной шеренгой. Ша-агом марш!
Над диваном противно усмехался ушасто-конопатый портрет кумира семьи — Ленчика, младшего брата, откровенно недоумевая, как же это можно выбиться из расписания английско-скрипично-теннисных занятий?! Ленчик — успешный! Ленчик — удачный! У него нет проблем с математикой, он не теряет деньги, не интересуется, как устроены люди без трусов. Им можно гордиться! С Янкой всё по-другому:
— Что-то ты, доча, пузо такое себе наела безобразное и щёки уже со спины видать!
Для девушки-подростка такое замечание звучит, как расстрельный приговор. Янка, как положено, в слёзы. Мама Ира долго трясёт её за плечи и пытает:
— Ты, что, беременна? Признайся, ты беременна? Не бойся, скажи мне, я ведь твоя мама!
Как ответить, что не нашёлся ещё желающий даже поцеловать такую уродину, одетую в отвратительное шмутьё, купленное в секонд-хэнде.
— Почему ты постоянно плачешь? Скажи, ты наркоманка? Наркоманка?!!
Янка давно заметила, что не может спокойно находиться с мамой Ирой в одной комнате. Её начинало разрывать нечто страшное, необъяснимое, абсурдное, то, что она не могла ещё толком сформулировать, но о чём уже догадывалась, не в силах примириться, — огромная, материнская нелюбовь — пожизненная, непоправимая её беда. «Значит, я сама виновата, раз родная мать меня не любит. Ненавижу себя…»
— Что, дочь, опять Гитлер тебя строит? — участливо интересовался отец, полностью подмятый «семейным счастьем». Иногда, опасливо озираясь, папа совал дочке в руку смятую денежку, заныканную от домашнего вертухая: «Матери не говори!» В своём автоцехе отец считался уважаемым и незаменимым. Но в семье являл собой досадное недоразумение. Бывало, что, придя домой в подпитии — на стадии безрассудства, отец пытался восстановиться в статусе главы семейства. Тогда в его голову летели: обувь по ранжиру, тарелки в неизменном иерархическом порядке, а также многочисленные вазочки, коробочки, шкатулочки…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Юлия Нифонтова Шиза. История одной клички [Повесть] обложка книги](/books/426943/yuliya-nifontova-shiza-istoriya-odnoj-klichki-povest-cover.webp)