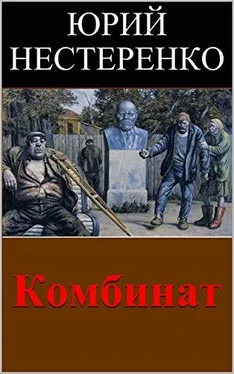— А почему нет фото вашего отца? — спросил Николай, уже догадываясь, что услышит в ответ.
Старуха заколебалась, словно собираясь выдать версию типа «он нас бросил, и мама уничтожила все его фотографии», но затем все же решилась и произнесла, инстинктивно понизив голос:
— Он был офицер, герой Первой мировой войны. Участник Брусиловского прорыва. Был награжден Георгиевским крестом и именным оружием. Потом оказался на юге России, в Крыму с Врангелем. Но в двадцатом году перешел на сторону красных. Стал их агентом и оказал большие услуги советской разведке при подготовке штурма Перекопа…
— Переметнулся на сторону победителя, стало быть, — констатировал Николай, даже не пытаясь скрыть неприязнь. — И помог Фрунзе тысячами расстреливать и топить в баржах своих однополчан.
— Мама говорила, что отец очень переживал, когда узнал об этих казнях, — возразила старуха. — Он тоже верил, что Фрунзе сдержит обещание помиловать сдавшихся.
Но… время было такое. Ведь и сам Брусилов призвал служить новой власти. Служить России независимо от того, кто ею правит… Отец не мыслил себя без Родины.
— Угу. Так не мыслил, что пошел служить отморозкам, принесшим этой родине больше зла, чем любые внешние враги.
— Время было такое, — повторила Алевтина Федоровна. — Сейчас-то вам легко судить… И потом, он спасал не только себя, но и маму. Она была у белых сестрой милосердия, из дворянской семьи Рябининых… но отец выправил ей документы, что она из крестьян. Он у большевиков быстро в гору пошел, ему сам Фрунзе покровительствовал, не забывший его услуг. Но свои царские награды и старые фотографии он, конечно, все равно уничтожил на всякий случай. Только не помогло. В тридцать седьмом его взяли по доносу, что он белый офицер. Хотя ведь наверняка это в чекистских архивах и так было… Больше мы отца не видели. Только записку от него получили, где он каялся в своих преступлениях перед советской властью и просил нас от него отречься.
Ну и намекнуть сумел, кто на него показал. Владислав Кириллов, его друг и сослуживец… дядя Влад и тетя Люда, хорошо их помню… Но его-то самого еще раньше, чем отца, арестовали. А там на кого только не покажешь…
— И что же — вы отреклись? — это был практически и не вопрос — пустые страницы альбома служили красноречивым ответом.
— Мама отреклась, и все его вещи уничтожила, фото, уже советские, тоже. Сказала, что ради меня это делает, мне жить. А потом… покончила с собой.
Старуха достала платочек и промокнула уголок глаза. Николай сочувственно промолчал.
— А я молодая была, глупая, — продолжила Алевтина Федоровна. — Только-только шестнадцать исполнилось. Ходила к следователю хлопотать за отца. Он обещал помочь, а… — она со злостью махнула рукой и поспешно перевернула страницу. — Вот это Маша, дочка моя. Здесь ей три годика, за месяц до войны снимок. Светочка не в нее пошла, она, как видите, темненькая была…
Следующие несколько страниц занимали фотографии взрослеющей Маши и постепенно стареющей Алевтины. Николай обратил внимание, что эти мать и дочь, напротив, почти не фотографировались вместе. Кроме того, об отце Маши не было произнесено ни слова, причем на сей раз никаких пустых мест в альбоме не было. На тех фото, где Алевтине было где-то от тридцати до сорока, и впрямь можно было заметить ее сходство с нынешней Светланой, хотя в глаза оно не бросалось. После последнего снимка тридцать седьмого года, сделанного еще до гибели родителей, миловидная девушка с косой исчезла без следа — на следующей фотографии, снятой уже после войны, Алевтина носила короткую, почти мужскую стрижку, а черты лица утратили мягкую округлость, сделавшись резкими, отчасти даже грубыми. И вряд ли виной тому было лишь плохое питание военной и послевоенной поры. Это был облик женщины, словно преднамеренно отрицавшей свою женственность — и ее послевоенная манера одеваться, кстати, тоже наводила на такую мысль. Подобного стиля Алевтина придерживалась до конца шестидесятых, когда, наконец, начала оттаивать — а может, просто вовсе перестала следить за внешностью, отдавшись естественному течению времени.
Наконец появилось каноническое фото голого младенца, лежащего на пузе (Николай особенно ненавидел такие карточки и в свое время уничтожил свою, запечатлевшую его в таком виде) — первое изображение Светочки. Опять-таки без какого-либо визуального или словесного упоминания об отце. Старуха принялась с торжествующим видом демонстрировать детские фотографии внучки, которых оказалось больше, чем снимков ее родной дочери, сделанных за всю жизнь. Впрочем, Маша на страницах альбома тоже еще изредка мелькала, дурнея с каждой фотографией — и, по всей видимости, не только в силу естественных возрастных причин. Николай помнил, что говорила Светлана о вредности работы на комбинате, и все же, глядя на фотографии ее матери, не мог отделаться от ощущения, что эта женщина пила, и пила крепко. Наконец старуха добралась до «а это Светочка после защиты диплома» (это фото, в отличие от большинства предыдущих, было цветным, но вид у новоиспеченного инженера-гидролога был скорее замученный, чем радостный) и начала было переворачивать следующую страницу, но вдруг передумала и закрыла альбом.
Читать дальше