Душану сделалось легко, и все, что его ждало впереди, уже не казалось таким страшным. И он решил не считать деревья и столбы и не запоминать в подробностях дорогу, по которой его вез на своей машине сосед Бахшилло, решил: как бы ни оказалось там тяжело, он не уйдет, не сбежит, смирится, ибо эта перемена, заставившая почувствовать себя спокойным, а мать, наоборот, страдающей, переживающей вместо сына, и смирила Душана.
Только почему–то странно ведет себя сосед Бахшилло, молчит, будто навсегда отгородился теперь от Душана, будто обиделся на него за то, что пришлось ему покинуть дом, оставить мать и брата Амона, и не столько на самого мальчика, сколько на его судьбу,. которую никто не предугадал. А ведь был Бахшилло всегда с ним ласков и, должно быть, как и все, обращался раньше к младенцу Душану на «вы»: «Как вам спалось? Что у вас со щекой, шмель ужалил?»
Неужто и сосед Бахшилло, узнав, что Душан не будет теперь жить на их улице, решил раз и навсегда безболезненно оторвать его от своего сердца, чтобы, не думая о своем маленьком и беззащитном брате, ожесточить душу и сделать ее нечуткой?
Эта перемена, начавшаяся от отца, а может быть, еще от прадеда и задевшая теперь жизнь матери и его жизнь и передавшаяся дальше чужому человеку — Бахшилло, сделавшая соседа холодно–равнодушным, так занимала мальчика всю дорогу, что он не заметил, как подъехали к Зармитану. Только удивило Душана, что Зармитан оказался местом, похожим на деревню деда, — такая же речка возле первых домов, туты и поле по левую сторону холма, будто поездка к деду, неожиданно прерванная, теперь продолжается. Вот ведь как… а он–то думал, уезжая из деревни в день смерти бабушки: то, что не суждено было пережить, чему порадоваться как новому опыту, так и останется теперь в стороне от его судьбы для того, чтобы могли это пережить другие. Значит, и то, что не переживет он среди родных дома, будучи в интернате, ощущения этих дней и лет не пропадут навсегда, а где–нибудь в совершенно незнакомом ему месте, может быть через много лет, к старости, вдруг повторятся с ним, и он узнает, что говорили и думали без него мать и Амон. Странно это, как круг, где жизнь топчется, перемешивая года и места, и, видно, уже заранее, еще до рождения, человеку все предначертано судьбой.
Подумал Душан в волнении и то, что, наверное, те самые мальчики, которые не успели показать им заросли, встретятся теперь ему в интернате, а он не знает узбекского: как быть? Что сказать про Амона? Ведь он обещал привести им городских тминных жвачек, чтобы отучить их от дурной привычки жевать восковые, пахнущие горькой свечой.
— А как я там буду говорить? — шепнул он матери, и та, укорявшая себя, что не могла устроить все так, чтобы не отрывать мальчика от дома, обрадовалась: заговорил наконец, стала убеждать Душана: все это нестрашно, в интернате говорят на трех языках: таджикском, узбекском и русском, можно объясняться на том, который знаешь лучше, или же смешивать все три языка — прекрасно поймут. И вот тут единственный раз сосед Бахшилло не выдержал свою роль отрешенного и вмешался, обратившись к Душану так же ласково, как в дни младенчества, на «вы»:
— А вы не поддавайтесь всей этой мешанине. Старайтесь больше говорить на нашем, таджикском. Он уже блекнет и теряется в Бухаре… — И пока он говорил все это убежденно, машина проехала мимо песчаного холма к одинокому, по большому и длинному дому — вдоль его жарких стен, заросших колючими кустами, — к воротам.
Вслед машине кричали и свистели мальчики, бегающие по глиняному забору, прыгающие вниз, к кустам и глядя на их возбужденный, задорный вид, Душан понял, что они и есть учащиеся интерната, не стесненные жестким порядком, ибо сама атмосфера Зармитана, так похожая на деревню деда, не могла не настраивать на простоту нравов, на расслабленность.
— Здесь, — сказала мать шоферу, быстро, суетясь, вышла из машины, показывая на старинные ворота, и ощущения умиротворенности и уверенности, продолжавшиеся от городского их дома до речки Зармитана, холма и ворот, словно остуженные этими словами матери, вдруг сменились суетливостью, будто только подстроившись к настроению матери, ее нарочито–неестественной быстроте движений, Душан мог теперь обрести уверенность среди чужих людей.
«Но ведь она сейчас уедет… так нельзя», — подумал Душан, мельком, с невниманием глядя на то, как открылось в воротах окошко и мать подала кому–то в протянутую руку бумагу, видимо пропуск.
Читать дальше
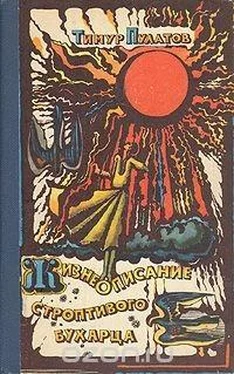





![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/427801/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras-thumb.webp)



