Бедняга Ямин, должно быть, так обрадовался девушке, которая первая заговорила с ним, тронутая его печальным видом, что забыл о предупреждении Шамиля, шел с Вазирой и трогательно смущался, краснея, как барышня, и, такой, он взволновал чем–то и Душана.
«Ну и хорошо, что она с Ямином. Это его так взбодрит… Только бы Шамиль не испортил своей глупостью», — подумал Душан, удивляясь неприятно тому, что приревновал он теперь и Вазиру, и, чтобы справиться с волнением, стал пробираться сквозь толпу к Шамилю, желая предупредить его, пригрозить, но, увидев, как Шамиль увлечен своей Харисой, не слышит ничего и не видит, отстал. И только, кажется, Душан один и заметил, как выбежали из комнаты отдыха Аппак и Карима и, смешавшись с толпой, зашли и заняли места в клубе. Душан постоял возле выхода, поймав на себе долгий и победный взгляд Вазиры, которая шла вместе с Ямином мимо рядов, чтобы сесть недалеко от подруги Каримы. «Все здесь игра… суета и притворство», — решил утешить себя Душан и вдруг вспомнил, что надо идти за кулисы: по программе оба оркестра народных инструментов — и русский и узбекский — должны были развлечь гостей.
Но на сцене Душан был снова собран, чуток и натянут, как струна, боясь сфальшивить, и так держался до конца концерта, видя, как Вазира с Ямином оживленно переговариваются, подмигивает ему Аппак подбадривающе, и удивленно, большими, круглыми глазами смотрит Карима, будто не веря, что Душан, который показался ей неприятным и назойливым, может так хорошо играть, спокойно и с достоинством сидеть у всех на виду.
А потом объявили — танцы… танцы… танцы, и оркестранты прямо со сцены попрыгали в зал, чтобы обнять напарниц и закружиться под звуки бухарского вальса из репродуктора; Душан же отошел к стене, чувствуя, как собирается в нем обида. Но на кого? Иронически прищурившись, он смотрел на танцующих. Неужели так трогают его эти две пары — Аппак с Каримой и Ямин с Вазирой, которые все время танцуют рядом, почти касаясь друг друга, лукаво переговариваются… конечно же, осуждая Душана.
«Мнят о себе, какие они неотразимые… и только я один без напарницы — об этом и перешептываются. А Ямин… как старается!» — вдруг вновь неприятно проснулась в Душане ревность, задышалось труднее, щеки покраснели от жара, будто шум, топот, смех били по его лицу волнами.
«Что ж, к черту… все это не по мне… веселье не моя стихия», — подумал Душан и стал пробираться к выходу, но с каждым шагом чувствуя, что бегство это похоже не на силу одиночки, пренебрегающего мишурой, ярким блеском, обманчивыми звуками, а на слабость, ибо все надо уметь: настоящая личность легко ведет себя и там, где бездумье, власть ритма, красоты, любовных ухаживаний. И, подумав об этом, Душан резко остановился у самого порога и повернулся в зал, поймав на себе тревожный взгляд Вазиры, которой, видно по всему, не хотелось, чтобы Душан уходил.
Взгляд ее взбодрил Душана, но сделалось ему не легко и хорошо, наоборот, пробудилось в нем что–то злое. Помрачнев, он вернулся назад, стоял и осуждающе смотрел на Ямина ожидая, что вот глянет он на Душана и поймет, что слишком увлекся, ухаживая за его девушкой.
Но Ямин был так же увлечен партнершей и в фокстроте, и в танго, и снова в вальсе и, должно быть, понимая, чего требует от него Душан, даже ни разу не глянул в его сторону.
Танцевал он как–то удивительно легко, даже артистично, а Вазира не отставала от своего партнера в умении — может, это и вывело Душана из себя.
«Сейчас я ему напомню, — подумал он, решительно направляясь к толпе танцующих, а на кончике языка уже вертелось это подлое, гнусное издевательство: «Ямин, Ямин, не забудь… Аминь!», фраза, которая должна была ввергнуть соперника в стыд, позор, но освободить Душана от ревности и злости, и, освобожденный так, он почувствовал бы себя победителем.
Искушение сделало его дерзким и заносчивым, он пытался шутить направо и налево: «Мордехай, ты как слоник бирманский», «Выше протезную ногу, Ирод!», «Не зацепись хвостом, Раббим!», ибо, прежде чем сказать такое Ямину, он должен был пройти через маленькую, безобидную роль хама.
Так шел Душан, задевая мальчиков плоскими шутками, подмаргивая девушкам, пока вдруг не увидел Ямина вблизи, и одного взгляда было достаточно, чтобы, отрезвев, пронзиться ощущением чего–то более глубокого и истинного, чем все то, что заботило его сейчас, и сделалось Душану совестно и тоскливо от печали и обиды другого, ближнего — молчание его, смущение было как запрет, как святое слово, непроизносимое…
Читать дальше
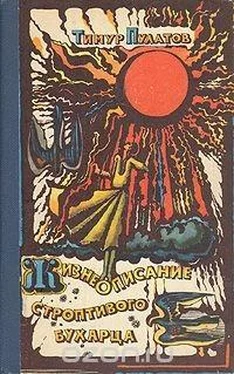





![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/427801/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras-thumb.webp)



