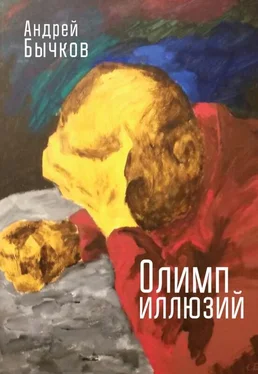– Наклоняйся в пупок, в даньтянь свой.
– Видишь Ахерон? Это Ахерон твой, а это мы, дон Хренаро и дон Мудон, друзья твои старинные, и сейчас мы будем лечить тебя на санках, на коньках, ну, давай, да не бойся ты, не бойся, тебе же сказали, что на бобслей это, на бобслей.
И тут-то и загремело, и быстро и внезапно подъехало по штокам вертикальным, и резануло-таки ему этим тяжелым и крутым, так, что брызнуло, как из брандспойта, как когда давление дали. И мир отделился, завертелся и полетел, и шлепнулся на опилки. И вырвало, наконец, мать его, и дети его глубоко и облегченно вздохнули. И захохотала жена его Машка. И встал тогда он без головы, и пошел без головы. На закат рассвета пошел он, на рассвет заката.
– Ну-с, одного спасли! – сглотнул дон Мудон, оглядываясь на опилки, вот это убрать бы только, но не сказал, м-мм, не сказал.
– Да, рвануло аж до потолка. Видать, сильный был у него, в смысле давления, – поддакнул дон Хренаро, и, сплюнул на кровь его.
И дал что было силы по голове ногой.
Нах, все выше и выше, прорывая атмосферу снов твоих, сквозь тучи иллюзий твоих, нах, все ниже и ниже, в грязное твое и порочное, все выше и выше в чистое твое и святое, все левее в блистательное, все правее в дурное, все выше в комическое, все ниже в трагическое…
Часть 4
Вечное возвращение
Глава 1
Гребаная квартирка
Кубы реальности и воображения шары, а я ведь без облаков обклеивал, да, обклеивал, что правды нет…
После развода, переехав в эту квартирку без мебели с коробками, собранными по магазинам – из-под бутылок с вином, пачек стирального порошка и прочая – в которых перевез свои книги и нехитрые шмотки. Коробки так и остались вместо мебели, и чтобы это не выглядело так убого, я обклеил их иллюстрациями, вырезанными из старых журналов «Pschegland Artistishne», доставшихся мне в наследство от отца. Это были иллюстрации картин Мунка, Ван Гога, Шиле и, конечно же, Бэкона. А через несколько месяцев, вернувшись из Флоренции, я приклеил скотчем на стену против солнца еще и репродукции картин Леонардо и Боттичелли.
Увы, со всей несомненностью я снова настигал себя в своей квартирке. Осмотрев свои толстые бычьи пальцы – конечно же, это были они, и я все еще был и длился и в них тоже со всей своей несомненностью – я все же выглянул с надеждой в окно. Зеленые мусорные баки с грязными крышками, загаженные голубями, развеяли последние остатки моих иллюзий. В мой взгляд, как грязь в лобовое стекло, впечатывалась Москва. И правда словно бы была в том, что я никуда не уезжал. А просто тупо сидел посреди этой своей квартирки на старинном, бабушкином еще, стуле, который-таки навязала мне при переезде мать, и который я терпеть не мог, поскольку он всегда мне напоминал о моей никчемной жизни. Я почему-то всегда чувствовал себя никем или ничем, как будто меня и вовсе не существовало, особенно же после развода. Это странное чувство отсутствия себя, своей ценности что ли, часто выталкивало меня из мира взрослых, даже когда я и сам уже был далеко не юноша. Даже со своими друзьями, которые, кстати, были младше меня, я чувствовал себя, «как сын, брошенный в топку отцов», как однажды выразился Док. И, если честно, то хорошо мне было всегда только с маленькими детьми да с собаками, с последними я мог играть и дурачиться часами. С детьми и с животными можно быть никем и одновременно – всеми призраками и всеми героями всех книг, всеми мстящими этому миру злодеями, на которых еще только и полагаются вечерние струи медленно остывающего летнего воздуха, пока спасительная прохлада уже подступающей ночной тьмы, не настигнет своих избранников под далеким светом предутренней звезды…
Скрежетание ключа в замочной скважине, словно бы в самом сердце, где оставалась еще надежда спрятаться, жить на этих странных изгибах, то внезапно вспыхивающих подобно фейерверкам, поднимающимся вверх и сверкающими как магма, выбрасываемая из вулкана, а то уже грустно опадающими подобно осенним листьям или медальонами с волосиками нерожденных младенцев – встреча аллюзий и ассоциаций, лотреамоновских зонтиков и швейных машинок на письменном столе… И вдруг этот внезапный скрежет – длинный, твердый, зазубренный, продолжающийся с какой-то неизменной ожесточенностью ножа, змеиной неумолимостью, скрежет, поворачивающийся и поворачиваемый железным ключом в какой-то странной непрерывности, в каком-то мучительном постоянстве того, что называют реальностью и что почему-то неспособно измениться и стать внезапно чем-то иным, медальоном или фейерверком, чайкой или верблюдом, чертополохом на даче или оранжевым лицом беспечного господина, вот именно, что… Но уже с каким-то обыденным, до боли знакомым и отвратительным клацаньем и скрипом, дверь открывалась, и уже входил кто-то другой, словно бы приносящий вместе с собой, вместе со своей спиной огромный нелепый рюкзак, набитый все той же ненужной мне обыденностью, которую я должен был снова заставлять себя терпеть, да, как над тазом, терпеть, несмотря на то, что мучительно хочется освободиться, а вынужден сидеть с голыми ногами и корчиться, коря себя самого за то, что не получается вывернуть до дна, за то, что рано, за то, что поздно, за то, что не надо, что надо подождать, и не надо мучить себя и мучиться, а надо еще потерпеть, когда уже будет наверняка, что когда пойдет все сразу и само…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу