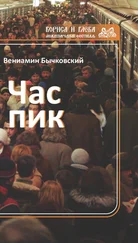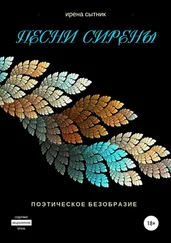– А как же жертвенность интеллигенции? – не сдавалась Элла.
– И в чём она проявилась, эта жертвенность?
– В борьбе за народное счастье, наверное, – после некоторой паузы ответил Артур за растерявшуюся Эльзу, которая не смогла собственными силами достаточно быстро найти приемлемую формулу, но, услышав тезис мужа, покраснела от досады и ещё сильнее расстроилась, предвидя полный разгром.
– Это да, – с радостной готовностью не замедлил откликнуться Павел Андреевич, – они большие специалисты по народному счастью. Так осчастливили страну, что мы до сих пор опомниться не можем. Единственное, что можно сказать им в оправдание, – они никогда особенно и не таились. Все их повадки были на виду уже в середине девятнадцатого века, да и дальше проявлялись вполне последовательно – то в травле Лескова, то в аплодисментах оправдательному приговору Вере Засулич, после того как эта фанатичка тяжело ранила петербургского градоначальника Трепова из револьвера-бульдога, то в бойкоте государственной думы.
– Да он же реакционер, этот Лесков! – воскликнул с негодованием Серёжа Оганесян. – И правильно ему либерально-демократическая общественность выразила осуждение.
– Чем же правильно? Объясните мне, пожалуйста. Насколько я знаю, Лесков поплатился только за то, что в своей статье о петербургских пожарах настаивал на независимости следствия и требовал освещения всех версий, отрабатываемых полицией. Всех – значит, и той, что пожары – результат намеренного саботажа революционно настроенных студенческих кругов, и именно это допущение вызвало гнев интеллигентов – как же, «наших бьют»! Истина интересовала Писарева и его соратников, бойкотировавших Лескова, лишь постольку поскольку – главное, чтобы все демократы шагали в ногу. Поэтому чересчур независимый журналист, не разделяющий негласного сословного устава, заслуживал, по их мнению, обструкции и звания «злостного ретрограда». Я считаю, что либеральная цензура, освящённая клятвами в верности идеалам, несравненно гнуснее любой казённой, и эта история – не что иное, как иллюстрация полного отсутствия у интеллигенции качества, которое Ницше называет «интеллектуальной совестью». Посмотрите с этой точки зрения на любые нынешние «высоколобые» теледебаты – там всё то же самое, ничего не изменилось.
Серёжа Оганесян вконец рассердился.
– Вас послушать, – заявил Серёжа, – так достойных людей и вовсе не бывало, ни в наше время, ни раньше.
– Отнюдь! – возразил Павел Андреевич. – Я всего лишь утверждаю, что «интеллигент» не есть синоним «достойного человека», а пожалуй что и наоборот. Что касается вырождения традиций после семнадцатого года, Людочка, то здесь, мне кажется, всё обстоит несколько иначе. Ведь само это слово стало употребительным только в девятнадцатом веке, причём заметьте, что никто из выдающихся представителей национальной культуры того времени не считал и не называл себя интеллигентом – ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гоголь, ни Достоевский. Иные из наших талантливых современников тоже отнюдь не любят, когда их называют интеллигентами. Лев Гумилёв, например, однажды очень оскорбился таким эпитетом: «Какой я вам интеллигент? У меня профессия есть!»
– А вам не обидно будет, если русские интеллигенты переведутся? – спросила Людочка. – Всё же уникальный российский феномен. Каким бы ни было это явление, не обеднеем ли мы, если оно совсем исчезнет?
– Э, Людочка, бросьте! Что в нём уникального? За границей полно своих интеллигентов – правда, они себя так не называют, но ведь не в названии же суть, верно? Вот хотя бы Энрико Ферми. Вы же знаете Ферми?
– Ну не так чтобы лично была знакома, – надула губки наша белокурая бестия, заподозрив генетика в стереотипных предрассудках относительно красивых блондинок, – но слышала что-то такое. Про атомную бомбу и Нагасаки с Хиросимой, ага. Припоминаю смутно.
– Не обижайтесь, Людочка, просто это очень важно, что именно про Нагасаки с Хиросимой. Знаете, что сказал Энрико своим более щепетильным коллегам про испытание атомной бомбы на живых мишенях? «Не надоедайте мне с вашими терзаниями совести, это всего лишь прекрасная физика». Законченный интеллигент, вы не находите? До того как эмигрировать в Соединённые Штаты и принять участие в Манхэттенском проекте, «его превосходительство член Королевской академии Италии», как в то время величался Ферми, был обласкан дуче и ни капельки не жаловался на «свинцовую мерзость» режима, оказывающего ему множество знаков внимания. Впоследствии учёный разыграл «антифашистскую карту» и стал считаться чуть ли не политическим диссидентом, бежавшим из страны в знак неприятия «расовых» законов тридцать шестого года. Но хронология событий внушает сомнения в достоверности этой версии. Уже в тридцать седьмом году, то есть много позже введения новых законов, Ферми обратился к Муссолини с просьбой об организации под своим руководством Института ядерной физики. Проект был отклонён, и, кстати, вовсе не потому, что дуче перестал покровительствовать Энрико, а лишь из-за чрезвычайно масштабных, по тогдашним понятиям, требований к уровню финансирования – и только после отказа в государственных дотациях Ферми внезапно становится невозвращенцем и просит политического убежища. Кошелёк у новых покровителей интеллигента был, бесспорно, толще – Италия едва ли могла конкурировать с Америкой в области капиталовложений в дорогостоящие научные проекты. Но если бы, паче чаяния, итальянские власти в своё время всё-таки согласились поддержать начинание Энрико, то первыми получателями авиапосылки с «прекрасной физикой» внутри, возможно, стали бы не японцы, а жители одного из городов Восточной Европы. Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Вениамин Агеев Песни сирены [сборник] обложка книги](/books/425780/veniamin-ageev-pesni-sireny-sbornik-cover.webp)

![Фридрих Ницше - Песни Заратустры [сборник]](/books/28216/fridrih-nicshe-pesni-zaratustry-sbornik-thumb.webp)