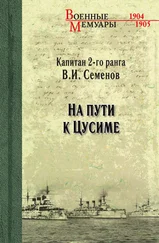Иосиф, все еще находясь в непонятном состоянии, сказал тогда: «В Гуду. Денежка там у меня припрятана». — «В Гуду так в Гуду, вдвоем веселее, да и смелее ехать: вечер скоро, а дорога неблизкая, да и лес.»
В Гуду приехали уже ночью. Лошадь у Михаила была сытая, как не с войны, быстрая. Может, из тех колхозных, что разбежались, когда в начале войны Ефим в район гнал. Сейчас поди спроси у Михаила — так он тебе и скажет.
Михаил, пока ехали, несколько раз спрашивал, не при нем ли, Иосифе, червонец, а он всякий раз твердил, что дома. При этом думал: был бы при мне, точно пристукнул бы меня землячок, и рука не дрогнула б. Или пристрелил: обрез-то у него имеется. Это Иосиф увидел сразу, как за город выехали, когда дорога пошла лесом. Тогда Михаил пошарил рукой под сеном, достал ствол, положил рядом с собой, под правую руку, пояснил Иосифу: «Лес, дядя, темно, мало ли что. А ты — не боись ничего, коли со мной».
Дома при Михаиле, при слабом свете свечи Иосиф достал из-под печи, отодвинув кирпич, завернутую в тряпицу золотую монету, подал ему: «Смолоду берег, Миша, а ты говоришь, тесть богатый был, сын.»
Отдал и чуть удержался, чтобы не заплакать: когда-то рассчитывал, что на свадьбу с Теклюшкой использует, а оно вон как все обернулось.
Михаил взял монету, сказал, вроде сочувствуя: «Ну и дурак ты, дядя Иосиф. Жизнь прожил, сидя на одной монете. А мог бы.»
Иосиф не переспрашивал, что мог бы: зачем?.. Услышал, как почему-то затрещала свеча. Подумал, наверное, отсырели свечи, лежали не в печурке, а в ящике стола, решил, что их надо подсушить, сказал Михаилу, чтобы распрягал лошадь, ставил в сарай — ночь на дворе. Тот отказался: «За меня, дядя, не боись, через час дома буду. Ночь звездная, я — через реку напрямую, путь хорошо известен.»
«Хорошо, когда путь известен», — подумал Иосиф. Если вспомнить людей, среди которых он жил всю свою жизнь, так получается, что большинство из них, как он понимает, знает, как жить, как поступать в той или иной ситуации. Ишь ты, путь известен. Поэтому и жили многие, наперед зная, что и как делать, все предвидя. Но вот только одного не предвидели — войну. Да что и как в ней происходит. А он, белая ворона, никогда ничего наперед не предвидел. И вот сейчас, спустив на воду лодку, погрузив в нее харчи и мешок зерна, он не знает, что делать дальше. Да, думал раньше, что уйдет от людей в лес, в одиночестве доживет старость, впрочем, не представляя толком, как.
Вот сейчас он один в хате, им же самим поставленной. А хаты, конечно же, ставят для счастья. Только не принесла ему счастья его хата. И сейчас, на склоне лет, когда, как говорят, день — век, хата эта не приносит обычного человеческого покоя. Наоборот, выталкивает, выдавливает его из себя. Нет, не паводком. Паводка Иосиф не боится, а вот этими то ли призраками, то ли тенями Марии, Стаса, и вот уже кажется, тех немцев, которые вместе со Стасом пили здесь, как сожгли деревню. И уже которая свеча трещит у иконы. Так неужели в этой хате столько черной злой силы, что ничто не может изгнать ее отсюда?..
Иосиф резко поднялся, подошел к столу, взял в правую руку свечу, ступил шаг к иконе, снял ее с покута, дрожащими руками завернул в полотенце, засунул под рубашку, тихо молвил: «Господи, если ты есть — прости за все грешное в моей жизни. И если моя хата никому не нужна, то зачем она мне?..»
20
Ближе к полуночи, когда дети уже спали в сарае на полатях, сделанных Михеем из жердей, а Катя на чердаке тихо стонала, мужчины услышали с улицы разорванный ветром голос:
— Люди!.. Люди!..
Ефим поднялся с колоды, на которой сидел, приоткрыл дверь и, посматривая в темноту, крикнул:
— Кого это прибило к нам в такую пору?..
— Фонарь возьми, фонарь. Посвети, дядя Ефим, — сказал Николай, подавая ему фонарь.
Ефим взял фонарь, вышел из сарая, заметил, что вода сюда так и не дошла, обрадовался, прокричал в темноту:
— Кто там?
— Люди. — слабый голос и шлепки весел по воде слышались уже недалеко.
Сначала, когда Ефим услышал этот голос, он удивился, подумав: «Кого занесло сюда такою порой и откуда? Дамбы уже нет, нет и моста, и единственная дорога, соединяющая деревню с миром, отрезана водой. Значит, никто чужой не мог сюда прибиться. А может, это ему кажется? Может, он еще не пришел в себя после взрыва?»
— Люди, — голос уже хрипел.
Нет, не кажется. Ефим понял, кто ищет возле них или у них спасения — Иосиф, — и мстительная злоба начинала закипать в душе: у него еще хватает совести.
Впрочем, сейчас в душе боролись два чувства. Одно — отправить того, кто пришел, прочь. Так и сказать ему: «Уходи, дьявол, чтобы во веки веков люди не видели и не слышали тебя.» Другое — снизойти, впустить к себе. Ведь не от добра он плывет сюда. Видимо, многое передумал Иосиф, прежде чем решиться прийти к людям, переборол страх перед ними. А зачем идет, на что надеется? Идет за помилованием? Надеется на сочувствие?
Читать дальше



![Владимир Сухинин - На пути к высокому хребту [СИ]](/books/390169/vladimir-suhinin-na-puti-k-vysokomu-hrebtu-si-thumb.webp)