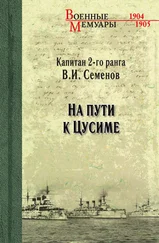Сейчас лошади, не единожды окуренные дымом, очищенные от коросты, были невиданным богатством деревни, где до войны был большой крепкий колхоз.
Учуяв мужчин, шедших к сараю, лошади заржали в тесном, отведенном им стойле.
Ефим, семидесятилетний мужик, длинный, словно жердь, с лицом, изрезанным глубокими морщинами, с сухими жилистыми руками — он шел впереди, — услышав лошадей, весь засиял, выдыхая клубы белого пара, сказал:
— Ого!.. Заждались. Скажи ты, не было б то живое.
Ему никто не ответил, да и говорил Ефим больше сам себе. В руках он держал старую деревянную, с черной трещиной почти по всей длине, лопату, на которой обычно садят в печь хлеб.
Возле сарая Ефим ускорил шаг, снег под его сапогами заскрипел как- то по-особенному жестко, будто толченое стекло, — и вдруг остановился, закашлялся, воткнул лопату в сугроб. Минуту постоял в каком-то одному ему известном раздумье, затем быстро потер красные руки, встряхнул плечами, словно молодой, схватил лопату и начал отбрасывать снег, засыпавший за ночь до половины ворота.
— Скажи ты, дядя, — запрыгал рядом с ним на деревяшке Николай, наблюдая, как Ефим ловко орудует лопатой, отбрасывая большие снеговые шапки, — снег-то какой. Я что-то не могу припомнить, когда такая зима была.
Николай стучал протезом по снегу, оставляя в нем выбоины, казалось, что эта деревянная нога больно втыкается ему выше колена в живое, поэтому он и прыгает.
— Может, когда и была, — сказал старик, на минуту остановившись, чтобы передохнуть. — Только и я не помню такой зимы, врать не буду.
Сказав это, Ефим вновь взялся за лопату.
Он, Ефим Боровец, сейчас был самым пожилым из гуднянцев, которым летом сорок третьего года удалось спастись от гибели, когда немцы сожгли деревню. Тогда мало кто избежал смерти: несколько женщин и детишек на рассвете пошли в лес, чтобы насобирать малины, а потом обменять ее на соль в Барвицком гарнизоне. Потом эту соль Ефим должен был отнести партизанам, лагерь которых стоял в Демковских болотах. Немцы же на деревню налетели позже, часов в семь утра, ягодников перехватить им не удалось.
И еще живым из стариков остался Иосиф Кучинский. Так как тому было не спастись? Его сын Стас снюхался с немцами с начала оккупации и служил им.
Правда, за неделю до того страшного дня Иосиф, вернувшись от сына из гарнизона, говорил, что, наверное, надо людям уйти в лес, что-то немцы уж очень заворошились, кто знает, что задумали.
— Слышит собака погибель, ластится, — бросил кто-то из деревенских, стоявших тогда на улице.
— Почему это собака? — повернулся на голос Иосиф. — Я никому ничего плохого не сделал.
Ефим тогда и выдал ему:
— А потому, что скулишь. Знаешь, что наши немца хорошо бьют, что скоро вызволят нас и земельку нашу, вот и трясешься, словно собачий хвост.
— А ты-то откуда знаешь, что бьют?
— Слухом земля полнится. Добрые люди говорят.
— Это какие такие добрые люди? — спросил Иосиф, посматривая из-под редких, будто выщипанных, рыжих бровей.
— Так я тебе и сказал! — вызывающе усмехнулся Ефим. — Может, шепнуть кому хочешь? Смотри, не успеешь.
Все, кто был здесь, на улице, посматривали то на Ефима, то на Иосифа. А Ефим разошелся, с каждым словом все ближе и ближе подступал к Иосифу. Иосиф тем временем сжался, словно ожидая удара, сказал:
— Зря ты так, Ефимка. Может, Стас и волколак. А я при чем?
— Как при чем? Корень-то твой!
— Что правда, то правда, — словно сдался Иосиф. — Этого не отрубишь. Но было же время, люди знают, я по углам не прятался.
Толстые синеватые Иосифовы губы дрожали, он старался смотреть мимо людей. На мгновение Ефиму даже стало его жаль. Но сейчас, при людях, он не мог себе позволить пожалеть человека, с которым когда-то дружил. Впрочем, не мог позволить себе этого и по иной причине: Иосиф не первый раз прилюдно козырял своим былым: словно набрасывал на весы хорошее и плохое. И если хорошее — свое, то плохое — сыново. Все знали, что Иосиф зла людям не делал.
— Былое — не стена, не спрячешься за ним, — сказал Ефим. — Было — сплыло, словно вода в реке. Ты о сегодняшнем думай.
— Я перед Богом чист!
— Вот ему ты и скажешь, когда час пробьет, — холодно, одними глазами усмехнулся Ефим. — Не с ним живешь. Я такой же, как и ты, старый человек, может быть, также одной ногой стою уже там, на краю жизни. Но нет его, Бога. У немцев на пряжках написано «С нами Бог». А что творят?.. Среди людей живем, на человеческом языке говорим, перед людьми и будем ответ держать. Смотри, попробуй только выдать.
Читать дальше



![Владимир Сухинин - На пути к высокому хребту [СИ]](/books/390169/vladimir-suhinin-na-puti-k-vysokomu-hrebtu-si-thumb.webp)