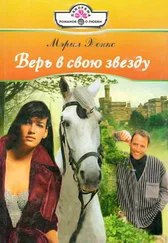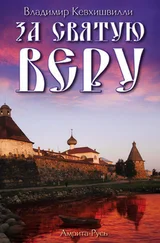Вошел в ворота и вздрогнул: в двух шагах от него стояла нищенка. Босая, ступни ног распухшие, будто растоптанные лапти. Одета в лохмотья — такое тряпье хороший хозяин только в собачью конуру бросает. У ног развернутый холщовый мешочек, в нем несколько мелких монет.
Иосиф посмотрел нищенке в лицо, и его словно обожгло: васильковые, неподвластные времени глаза... Кажется, давно забытые, но какие родные... И облик, когда-то самый дорогой на свете, вдруг вспыхнул перед ним, сбросив с обветренного лица глубокие морщины, — ее, молодое, светлое Теклино лицо...
— Текля! — простонал он и бросился к нищенке.
— Я, я, Иосифка, — слабо пошевелила она пересохшими губами, не удержавшись на ногах, начала медленно оседать на землю.
Он подхватил ее под мышки, удержал, прильнул лицом к плечу, зашептал:
— Сколько же лет я тебя ждал, Теклюшка...
— И я тоже, — простонала она. Затем, словно опомнившись, выдохнула: — Спасай, беглая я...
18
Вечером Иосиф привез Теклю в Кошару...
В то мгновение, когда она произнесла: «Спасай, беглая я...», он вдруг почувствовал вспышку такой силы, какой, кажется, не чувствовал даже в молодые годы.
А Текля, овладев собой, попросила:
— Пошли отсюда. Веди меня под руку. Крепко держи и не оглядывайся. Потом скажу, почему.
Иосиф, еще ничего не понимая, крепко держа Теклю под руку, повел ее с базара. Уходя, она даже не взяла мешочек с медью, только тихо повторяла: «Быстрее, быстрее... »
Шли вниз, к реке, туда, где Иосиф оставил свой челн. Текля, ступая по булыжнику, вздрагивала с каждым шагом, будто босая шла по толченому стеклу. Иосиф время от времени поглядывал назад — ничего подозрительного там не замечал: ходят люди, и никому нет дела до них с Теклюшкой. Если она беглая, думал он, то опасаться надо милиции, а милиции здесь не было.
Вскоре, успокоившись, сказал, что надо остановиться, он сбросит сапоги, развернет портянки, обмотает ей ноги.
— Потом, потом, — говорила она, — скорей, скорей...
Так и шли, быстро, как только могли. И через некоторое время миновали Архипову баню, спустились на ярко-зеленый лужок, усыпанный лилово-розовыми цветами матердушек, подошли к челну.
— Скорее! — вдруг почти закричала Текля, показывая рукой на взгорок.
Иосиф, не оглядываясь, посадил ее в челн. Сильно дернул старую, наполовину перетертую бечевку, державшую суденышко возле ольхи, бечевка лопнула. Быстро забрался в долбленку, оттолкнулся шестом от берега, и только когда челн подхватило течение, посмотрел туда, куда показывала Текля: на взгорке стоял мужчина, глядел на их.
— Не бойся, это Григорий, — сказал Иосиф, направляя лодку поперек течения к противоположному берегу. — Он дружил с Архипом, моим хорошим знакомым. Архип жил в этой бане, — показал на баню, — недавно умер...
Уже когда заплыли в лес, Текля, чувствуя рядом с Иосифом себя в безопасности, рассказала, как добралась в город, что, пройдя почти полземли, побоялась идти домой, в свою деревню. Мало ли что может случиться...
— Досталось тебе, — сказал он.
— Досталось. Одна бы не выжила. Где шла, там люди и помогали.
— Авдей как? — вдруг спросил он.
— Авдей? — удивилась она. — Авдей там остался. Я убегала не только из ссылки, но и от него. Уходила ночью. По тайге шла, берегом реки. А тайга — это такой лес, в котором редко человека встретишь, чаще — зверя. Только зверя не так боялась, как человека. Зверь что, обойди его стороной — не тронет. А человек если что удумает, да если ему за это деньги посулят, ни перед чем не остановится, не посмотрит, женщина ты или ребенок... Авдей, когда однажды сказала, что уйду, пригрозил: «Из-под земли достану! Живой не оставлю. В тайге ружье далеко метит...» Долго терпела. Но однажды решила: вырвусь отсюда так вырвусь, нет — так нет. И пошла. Не могла дожиться до того, чтобы в чужую землю лечь — своя есть. И не могла умереть, тебя не увидев, не сказав, что напрасно ты от меня отвернулся, — Авдей тогда меня силой взял. Я же тебя, Иосиф, очень любила. Потому и страдания мои. Но скажу тебе, что страдания сами по себе не страшны, любое стерпеть можно. Страшны они, когда от обиды, когда над честью твоей надругаются.
— Я тоже это знаю...
— Бил меня Авдей. Сколько жили, столько и бил. Все упрекал, что тебя любила. Все вспоминал, как я, когда под венец вез, тебя просила, чтобы забрал меня. Не мог простить... И хорошо, что тогда ты не забрал меня, я уже тяжелой была... Все во мне отбил, так и не родила.
— Дурак был, потому не забрал, — сказал Иосиф. — Не отбил бы... А ребеночка вырастили бы, в люди вывели.
Читать дальше