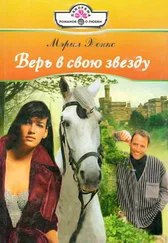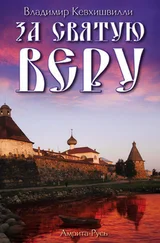Этот фонарь Николаю дал участковый Савелий Косманович. Как-то Николай по председательским делам был в сельсовете на сходке, рассказал местному активу, как гуднянцы живут.
Сказал, что зерна нет, что живут в землянках. Поведал, что ставят дом вдове-солдатке, что имеют двух лошадей, их осенью дали в районе — дескать, живут его односельчане, как и все люди, не хуже и не лучше.
Савелий, бывший фронтовик, только что демобилизованный по ранению, как и Николай, после совещания завел его к себе в боковушку, в «кабинет» (сельсовет располагался в уцелевшей избе), при слабом свете фонаря, стоящего на столе, налил стакан первача, посетовал, что пока ничем не может помочь.
Николай выпил, «прикусил» рукавом, не торопясь ответил, что помочь он может, и показал на фонарь:
— Вдова Петра Журовца, Катерина, на сносях, живет в землянке. Свет у нее такой: коптящая снарядная гильза.
— Жаль Петра, жаль Катерину, — вздохнул Савелий. — Такая пара была! Он — богатырь, она — красавица. По ней, пока с Петром не сошлась, многие наши ребята сохли. Сейчас у нее — ни мужа, ни родителей. Конечно, поможем чем только можем.
Прощаясь, Савелий молча подал Николаю фонарь с керосином...
Катя от фонаря отказалась, сказала, что гильзу зажигает редко, пусть фонарь будет в сарае, там он нужнее: при хозяйстве.
Старик повесил фонарь на место, подошел к полке, приделанной к стене, взял огромный чугун и, помня Надин наказ согреть воды, вышел из сарая.
Уже хорошо стемнело. В печке по-прежнему метался огонь, освещал небольшую часть островка, людей, собравшихся на нем. У подножья, на воде колыхались длинные мягкие сполохи.
Ефим торопливо спустился к воде, сбросил тяжелые сапоги, не закатывая мокрые брюки, зашел в нее почти до колен, опустил чугун, набрал. Холода он не чувствовал, хотя ступни покалывало.
— Деда, ее надо обязательно процедить, — сказала Светка, когда он подошел к печи. — У меня платок чистый. А вот другой чугунок. Я все сделаю.
— Ну да, — согласился старик, — только я тебе помогу, чугун тяжелый.
Светка молча сняла с головы платок, подала Ефиму пустой чугун.
Воду процедили. Ставя чугун в печку, Ефим сказал:
— Большая уже. Скоро мать заменишь. А сейчас идите с Валиком да прилягте на полатях. Умаялись. Отдохните. А я кликну, когда помощь потребуется, особенно твоя, Светка.
— Хорошо, деда, — ответил за себя и за сестру Валик, он стоял рядом, не зная, что делать. — Только ты разбуди нас, когда помощь потребуется, ладно?
— А как же! — ответил старик, подбрасывая в печь дрова...
... А тем временем, когда дети улеглись на полати и вскоре уснули, утомленные за день, Катя лежала на грубом солдатском одеяле, разостланном на тонком слое сена. Ей было плохо, и она боялась, что закричит, боялась всех напугать, сжалась, тихо стонала. Фонарь Надя повесила на стропило, он слабо освещал Катино лицо, перекошенное от боли.
Надя видела, как непросто ей сейчас, наклонилась над Катей, начала шептать:
Праз поле чыстае, праз мора быстрае ішла маць прачыстая.
Там яна траўку рвала, вадзіцу брала, рабе божай Кацярыне
Усё цела падмывала і ў мора спускала.
Як па мору вадзіца разыходзіцца, так штоб у рабы Божай
Кацярыны косці разыходзіліся.
Я не знаю, сам Гасподзь Бог знае і нам памагае.
Я са словам — Гасподзь Бог з помаччу і Святым Духам.
Этот заговор Надя шептала трижды. Затем читала молитвы, которые когда-то слышала от своей матери. И вскоре Катей овладело какое-то удивительное, похожее на сон состояние, хотя понимала: все, что с ней происходит, происходит наяву, и явь эта какая-то туманная, на грани, за которой исчезает сознание.
Наяву — лежишь на чердаке. Над головой фонарь. Она видит склонившуюся над ней Надю... Надя по-прежнему шепчет какие-то таинственные, успокаивающие слова...
...И грезится: Петро перед ней... Ласково улыбается, протягивает к ней руки, хочет обнять, то ли зовет к себе, то ли за собой...
Она улыбается в ответ, но не соглашается и вместе с тем не сопротивляется: будто раздумывает, как быть, при этом понимая, что грезится... И вдруг наяву чувствует, что уже не одна на этом свете, а если так, то ей нельзя в тот мир, где сейчас Петро... Хочет сказать ему это, но губы не слушаются, не может... И чувствует, что и он понимает — нельзя ей идти за ним, — так же неожиданно исчезает, как и появился...
Через щели в крыше Катя видит — какие-то слабые то ли сполохи, то ли вспышки огня, будто где-то далеко в небе занимается зарница... Слышит мужские голоса возле сарая, разорванные ветром, да так, что непонятно, просто разговаривают или о чем-то спорят. Слышно одно: «...у-у-ии...», да «...няйте... няйте... няйте двер ер...» И — сухой скрип двери.
Читать дальше