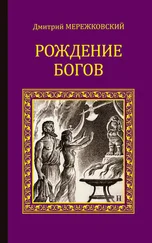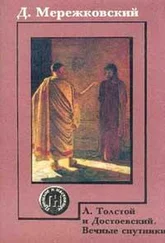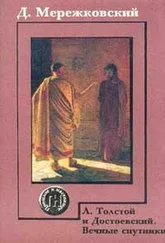Тогда, после тех антверпенских картинок, заболела от ужаса и отвращения к матери, к Шувалову, к себе, ко всем людям, ко всему миру. Один Валя казался ей чистым, и она была уверена, что он бы понял ее. «Натуральное наслаждение!» Если такова натура и Сам Бог устроил так, то она не хочет мира, не хочет Бога. Ей казалось, что она больна и, может быть, умрет не от болезни, а от этого.
В соседней белой зале послышались приближающиеся голоса: Шувалов, маменька. Софья вскочила, чтобы убежать: не могла их видеть сейчас. Но вдруг остановилась, окаменела, глядя широко раскрытыми глазами в глубину зеркала. Опять бредит, что ли? Нет, слишком ясно видит то, что видит: Шувалов целует Марью Антоновну, и у обоих такие лица, как тогда, когда Софья вошла нечаянно в комнату, где Ожаровский делал что-то с маменькой. Непристойная картинка. Жених – с матерью. А голубоглазый мальчик улыбался им двусмысленной улыбкой.
С тихим стоном, протянув руки вперед, как будто защищаясь от привидения, Софья упала навзничь на диван. Все помутилось, поплыло в глазах ее, и сама она плыла, утопала в бездонной глубине.
Очнулась. Увидела над собой лицо матери и опять лишилась чувств.
Но матери уже не было в комнате, когда очнулась во второй раз, окончательно. Послышались шаркающие шаги Прокофьевны – и вдруг вблизи знакомый голос:
– Да скоро ли доктор?
– Папенька! Папенька!
Он обернул к ней лицо, испуганное, бледное, бросился к дивану, стал на колени и, наклонившись над ней, поцеловал ее в лоб.
– Ну, слава Богу, слава Богу! – перекрестился. – Софочка, милая, вот напугала-то!..
Обвив ему шею руками, она вся прижималась к нему, цеплялась за него, как утопающая.
– Папенька! Папенька! Папенька!
Немного приподнялась, отстранилась и всего оглядывала, ощупывала, как будто желала убедиться, что это он. Да, он, живой, настоящий, не холодная мертвая кукла, не древний римский император, а живой, родной, теплый, настоящий папенька. Оглядывала, ощупывала, трогала пальцами. Вот пухлые бритые щеки с ямочками, с двумя полосками золотистых бакенов, и мягкий раздвоенный подбородок, и гладкий плешивый лоб с остатками белокурых вьющихся волос, начесанных кверху, и между нависшими бровями – морщинка, не гневная, а только грустная, жалкая; и жалкие, грустные, детские прозрачно-голубые глаза; и на губах, прелестно очерченных, юных, улыбка не лукавая, а пленительно-нежная, тоже детская, беспомощная. И сутулые плечи, немного наклоненные вперед; и тучный, но все еще стройный стан, затянутый в узкий темно-зеленый кавалергардский мундир с серебряными погонами; и стройные, словно изваянные, ноги в лакированных ботфортах с острыми кончиками. Да, весь родной, любимый, возлюбленный.
Опять прижалась к нему, полузакрыв глаза, улыбаясь.
– Ну, вот видишь, дружок: не надо было вставать; доктор правду говорил: лежала бы – ничего бы не было…
– Да ничего и нет, папенька! Я совсем здорова. Маленький жар. Пройдет…
– Ну, где же здорова? Вон кашляешь, голова горячая, и руки как лед. Будь умницей, пойдем-ка, ляг: сейчас доктор придет.
– Зачем доктор? – заговорила она по-французски, изредка вставляя русские слова, как обыкновенно говорила с ним. – Я не буду больна, не буду кашлять. Только не уходите, ради Бога, не уходите! Не могу я без вас. Если бы вы знали, как страшно, как страшно…
– Да что тут было? Что такое? Скажи…
– Нет, не надо. Не говорите, не спрашивайте! Ничего не надо. Только бы так с вами долго, долго, всегда. И все хорошо будет, все пройдет. И никого не надо. Только вы и маменька… ох, нет, нет… не та, а другая, настоящая маменька…
Он думал, что она бредит; но, вглядевшись в лицо ее, понял, что это не бред.
– Что ты, дружок? Господь с тобой! Разве можно так о матери?..
– Не мать! Не мать! Не могу я больше, не могу, не хочу!.. Страшно, гадко… Папенька, папенька, возьми меня отсюда! Разве не видишь, что я не могу…
Зарыдала и, бросившись к нему на шею, опять охватила его руками, уцепилась за него, как утопающая.
– Ну, полно же, полно, дружок! О чем ты? Ведь я же тебе обещал: когда выйду в отставку, уедем с тобой и будем вместе, всегда вместе…
– Да, папенька, ты обещал, помнишь? Только когда же, Господи?..
Заглянула ему в глаза пристально. Увидела, что он думает или сейчас думал о другом, о своем, – может быть, таком же страшном, как и то, что было с нею. О чем же? Вдруг вспомнила: 11-е марта – годовщина смерти императора Павла I. Знала, какой это день для него; знала, что дедушка умер не своею смертью, и что отец всегда об этом думает, мучается этим, хотя никогда ни с кем не говорит. Если и не знала всего, то угадывала. Сколько раз хотела заговорить, спросить; но не смела. И теперь не посмела; только повторила вслух:
Читать дальше