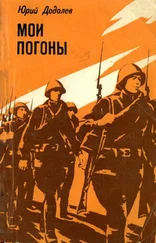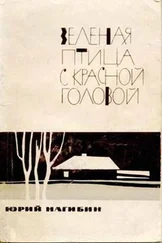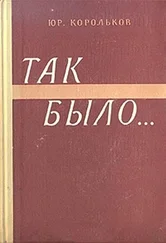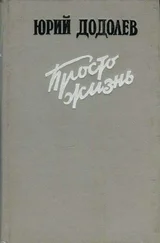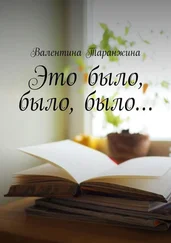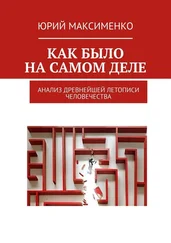До революции и во времена нэпа она жила в прислугах — сперва у одного адвоката, потом у другого. Женщины нашего двора часто бегали к ней советоваться. Вековуха молча выслушивала их, после чего давала совет, чаще всего правильный, если не с юридической, то с житейской точки зрения. О своем прошлом она не рассказывала.
— Кормилась, — отвечала Авдотья Фатьяновна, когда к ней приставали с расспросами.
Жила Вековуха в соседнем доме. Занимала маленькую комнату, сплошь увешанную иконами. В комнате пахло ладаном, деревянным маслом и еще чем-то. Под окном с резными наличниками росли цветы — Авдотья Фатьяновна продавала их на Даниловском рынке, хотя и говорила, что это грех.
— Цветы людям на радость дадены, — утверждала Вековуха, — их только дарить можно, а продавать ни-ни. Но приходится, потому что без пендзии (она так и произносила — «пендзии») живу. Тем, которые в прислугах находились, не положена пендзия. Вот и торгую цветочками, чтоб добавку сделать к тому, что в прислугах нажила.
— А много ли нажила, Авдотья Фатьяновна? — интересовался кто-нибудь из женщин.
Она бралась за кончики платка, потуже стягивала узел.
— Много ли, мало ли — на прокорм хватит!
Если женщины продолжали допытываться, она напускала на лицо строгость и уходила.
Когда началась война, цветы перестали покупать, и на сухих, потемневших стеблях покачивались завядшие георгины.
Вековуха поняла меня с полуслова.
— Ты на дворе покуда побудь, — сказала она, когда мы подошли к подъезду.
В тот день Вера родила мальчика. Назвала его в честь отца Ваней. В декабре 1943 года, когда я уходил в армию, ему было больше двух. Этот маленький человечек, чем-то похожий на мать, а чем-то на отца, сидел взаперти, пока Вера находилась на работе, и не плакал. Он был очень спокойным, этот Ваня.
— Вот ведь он какой, — нахваливала сына Вера. — Описается, мокрый весь, голодный — и ничего.
Придя с работы, Вера варила кашу. Потом стирала в чуть тепловатой воде рубашки и штанишки. Мыла не было — она терла белье золой.
Вера страдала молча. Она никогда не плакала, никогда не жаловалась на свою судьбу, но я чувствовал — ей очень и очень тяжело. Она не хотела верить, что муж не вернется. Все мечты о будущем начинала словами: «Вот вернется Ваня…» Я удивлялся про себя, не понимал, как можно любить такого мужа, каким был дядя Ваня. Так и сказал Вере. Она бросила взгляд на меня:
— Молодой ты еще, зеленый, многого недопонимаешь…
Я смотрел сейчас на сильные мужские руки, скользящие по женским волосам, и старался предугадать, как будут жить эти люди. Никакой уверенности, что дядя Ваня изменился, стал другим, у меня не было — память цепко держала то, что я видел и слышал до войны.
Есть в Замоскворечье улицы, которые до войны обходила стороной строительная лихорадка. В годы первых пятилеток на этих улицах возводилось два-три дома, а чаще ни одного. Большинство улиц Замоскворечья оставались такими, какими привыкли их видеть наши бабушки и дедушки — те, кто родился тут, любил, страдал, растил детей и потом умирал, как умирает пламя на оплывшем огарке. Реконструировалась улица Горького, возводились облицованные светлым камнем дома, открывались новые кинотеатры, клубы, а на тихих улицах Замоскворечья ничего не менялось. Тут все, даже новая колонка, воспринималось как событие. Проложенная трамвайная линия вызывала такой оживленный обмен мнениями, что у хозяек убегало молоко, подгорала картошка.
Мостовые на этих улицах были выложены булыжниками, автомобили подпрыгивали на камнях, плевались фиолетовым дымом, подводы грохотали так, что закладывало в ушах. Тротуар напоминал побитые оспой лица: был он в выбоинах, в которые стекала дождевая вода. Земля в выбоинах никогда не просыхала: темная и густая, она напоминала ихтиоловую мазь. Дома стояли впритык. Некоторые из них выпирали фасадами на тротуар, другие теснились в глубине дворов, скрытые деревьями, заборами, сараями, кучами красноватой земли, возвышающейся вдоль траншей, вырытых неизвестно для чего.
Дома побольше и получше — так рассказывала моя бабушка — принадлежали в стародавние времена купцам. На первом этаже такого дома, сложенного, как правило, из красного кирпича, размещалась до революции лавка или трактир; на втором этаже жили хозяева — похожие на бочки купцы и трактирщики со своими домочадцами; на третьем, под самой крышей, ютились в тесных каморках с маленькими оконцами бойкие приказчики с напомаженными волосами, половые и прочий служивый люд, без которого купец не купец и трактирщик не трактирщик.
Читать дальше
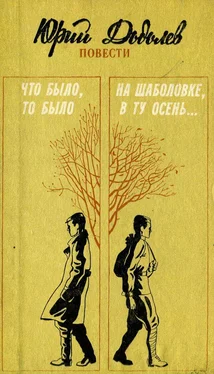
![Юрий Шпаков - Это было в Атлантиде [Приключенческая повесть]](/books/28607/yurij-shpakov-eto-bylo-v-atlantide-priklyuchencheskaya-thumb.webp)