— То есть как? — улыбнулся Зимин.
— Если я не иду к нему по личной причине? Допустим, мне противно его видеть?
— И что же? Вообще не идти? — Зимин уперся обеими руками в подоконник и искоса взглянул на Морозова.
— Вообще, — кивнул Морозов. — Мы бедные, но гордые.
— Гордость — это слишком простодушно, — сказал Зимин. — Не обижайся, но ты еще не политик. А руководитель обязан быть политиком. Когда ты уяснишь эту элементарную истину, ты будешь в полном порядке. — И Зимин снова взглянул на Морозова, чтобы уловить выражение его лица.
Морозов, наморщив лоб, грустно и задумчиво смотрел перед собой.
Теперь ему стало ясно, что от него требуется участие в какой-то игре Зимина с Рымкевичем.
И он еще понял, что начальник шахты в конце концов изловчится и хитроумно загонит его в угол, употребив для этого крепкие выражения, например «патриотизм», «общественная польза», «чувство долга» и, может быть, «престиж родного предприятия».
Подобным образом пытался убеждать и Павлович, но в сравнении с Зиминым он был слабаком.
«Их сломали, — подумал Константин о своих товарищах. — Я сопротивляюсь неизвестно чему».
— Он тебе противен? — продолжал Зимин. — Но разве может быть противен вот этот стул? Он может быть удобен или неудобен, полезен или бесполезен. Так и Рымкевич. Главное, чтобы ты не оказался в дураках.
— Ну это слишком цинично! — сказал Морозов. — Лучше остаться в дураках, чем потом не уважать себя.
Он отошел от окна.
Зимин улыбался, но весь сжался, и его лицо сжалось, глаза недобро сузились. Морозов оскорбил его.
Они молча смотрели друг на друга.
— Кажется, я ошибся в тебе, — без всякого выражения вымолвил Зимин.
— Не знаю, — сказал Морозов.
— Пожалуй, ты совсем зеленый.
Морозов пошел к двери.
— Стой! — грубо произнес Зимин.
Константин повернулся. Он знал, что сейчас Зимин взорвется, и, внутренне ожесточившись, ждал.
— Проведешь наряд, но в шахту не спускайся! — с напряжением произнес Зимин и плотно сжал губы.
Морозов едва заметно кивнул, постоял несколько мгновений и вышел. Вспыхнувшая в нем сила сопротивления осталась нерастраченной. Ему было тяжело.
Когда за ним закрылась дверь, Зимин слез с подоконника и стал сосредоточенно насвистывать мелодию из кинофильма «Крестный отец». Он дважды начинал ее, но слышал, что фальшивит. В третий раз получилось хорошо. Зимин зашагал по кабинету, заложив руки за спину, и тихо мурлыкал: «Ту-ру-ру-ру-ру…» Он нарочно не хотел думать о Морозове, чувствуя, что, сдержавшись, он психологически выиграл… Морозов знает, что оскорбил и остался безнаказанным, поэтому у него неизбежно возникнет комплекс вины. И Зимин в конце концов добьется своего.
Пока Морозов шел со второго этажа на первый, с ним случилось что-то вроде солнечного удара.
У него в ушах стоял едва различимый гул печальной песни. Ему чудилась дорога в весенней степи, поднимающаяся на холмы и гривы, бегущая вниз к речным долинам, оврагам и балкам. Среди сухих стеблей узколистого ковыля, тонких былинок костров и почернелых колючек татарского катрана мелькала нежная прозелень мелкого мха и сине-зеленой водоросли.
Он увидел степные тюльпаны и сон-траву, расцветающие в конце апреля. Из года в год каждую весну повторялось их рождение, не имеющее ни начала, ни конца. Зацветали ирисы и адонисы. В середине мая, перед суховеями, загорались темно-красные пионы, а дорога выводила в летний день, тянулась вдоль обнаженных сланцев ромашками, люцерной и чабрецом, сбегала к песчаникам, заросшим тимофеевкой, поднималась в гору, на меловой берег Айдара, где уже росли другие травы и где бабушка собирала впрок горицвет, пиретрум и кузьмичову траву, пучки которых висели все лето в сенях, источая горьковатый запах увядания.
В песне говорилось, что «на горе жницы жнут, а под горою, яром-долиною, казаки идут», и не все казаки вернутся домой…
Что-то сделалось с Морозовым; что-то задавленное могучим пластом бесформенной мешанины вдруг вырвалось из подсознания, и, как сквозь распахнувшееся окно в комнату с застоявшимся воздухом влетает порыв ветра, так же сильно и естественно открылось в душе Константина какое-то окно, и он повернулся к нему.
«А еще хорошие медоносы — иван-чай, донник, эспарцет и клевер», — когда-то сказал дед Григорий. И его слова прозвучали снова. Пространство и время, сквозь которые они пробились в эту минуту к Морозову, лишили их первоначального смысла; они перестали обозначать связь пчелы с цветком, но в них звучали совсем иные слова, сказанные в безумстве: «Я люблю тебя!» И звучал смех Веры. Где-то стояла выбеленная известкой стена с черной надписью: «Здесь жил Гаршин», а бабушка вскапывала мусорную землю перед домом и сажала яблони, и отец писал рассказы о счастливых людях, забыв о своей беде… Это находилось где-то очень близко, ближе того кабинета, откуда только что вышел Морозов, и ближе той работы, за которую он возьмется через несколько минут. Это как будто рванулось Константину на помощь в безнадежной борьбе, в которой у него не хватало сил, чтобы его дух устоял против доводов рассудка и честолюбия.
Читать дальше


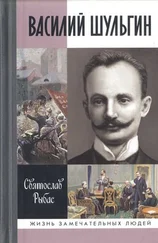

![Святослав Рыбас - Зеркало для героя [сборник]](/books/414715/svyatoslav-rybas-zerkalo-dlya-geroya-sbornik-thumb.webp)