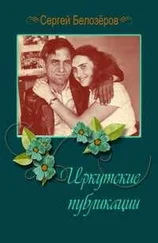— Бежим!
И я сообразил, что, действительно, бегу с какой-то рослой, тёмно-рыжей женщиной, которая одной рукой азартно размахивает жемчужной сумочкой на длинном ремешке, а другой — тащит меня, как бульдога на привязи; вослед нам воют полицейские сирены, а женщина смеётся и смеётся, как заводная, однако, не бросая меня как зачинщика драки; и я оценил её благородство и понял, что ночь тоже заводная, а не траурная, как я её воспринимал сгоряча, и на какое-то время забылся, чтобы дать отчаянного стрекача и, кажется, разорвать карман о какую-то ветку.
На крайне тёмной улице мы поймали частника и понеслись на север, хотя в центр, на Кутузовский проспект, было ближе.
Женщина икала и смеялась, смеялась и икала. Я её толком не разглядел, и только когда мы выскочили на Рязанский проспект и стало светлее, я с удивлением узнал в ней Валессу Азиз.
— Мне надо выпить! — безапелляционно заявила она, как обычная уличная девка, а не королева эстрады; и сделала умоляющие глаза, чем меня ещё больше подкупила.
— Друг, останови, у какого-нибудь бара поприличнее, — попросил я.
Мы выскочили, кажется, где-то на Энтузиастов и побежали поперёк трамвайных рельсов. Было прохладно и сыро, рельсы блестели, словно катана. Со стороны Измайлова налетал ветер и тревожно качал деревья, небо было тёмным, синее, как стёганное покрывало.
— Ты знаешь, кого ты отоварил? — хихикнула она, как лисичка, на безупречном русском, да и поглядывала, как завзятая москвичка на лавочке с сигаретой в зубах, только сумочка и вещи на ней были в блёсках, эстрадными и несерьёзными.
— Нет, — признался я, плохо ориентируясь в этом районе, за исключением окрестностей одноименной станции.
— Лабу Макензи по кличке Быстрый мор!
Как будто мне это что-то говорило!
— И что?!
Меня качнуло, я едва удержался. Рядом, как стрела, пролетела машина, обдав нас брызгами.
— А ничего, — беспечно толкнула она ногой дверь в бар, кажется, какой-то «бочонок». — Потому и мор, что всех заморил уже до смерти! — выкрикнула она со смехом, стряхивая воду с одежды.
На нас оглянулись. Ещё бы: рослая, чрезвычайно красивая женщина с размазанной на лице косметикой, в рваных на коленях джинсах, простоволосая, как ведьма, но одетая, как принцесса, то бишь, весьма своеобразна даже для ночной Москвы, и её спутник в рваном же траурном костюм, в траурной рубашке и траурной галстуке. В общем, во всём том, во что сочла нужным облачить меня мой секретарша, то бишь Вера Кокоткина с задорный носиком и чёрными, воспалёнными страстью глазами. Мы походили на подвыпивших эстрадных артистов, сбежавших с вечеринки.
— Это такой большой? — спросил я воинственно, когда мы сели в самом дальнем краю стойки, подальше от любопытных глаз.
Народа было мало, бармен подал знак, что сейчас подойдёт.
— Маленький. А большой — это его друг. Ещё та жаба!
Из своей жемчужной сумочки на длинном ремешке она достала косметику и начала наводить макияж так, словно мы были любовниками и она давным-давно не стесняется меня и даже считает нужным приобщить к своим дамским привычкам, чтобы привязать крепче и надёжнее.
— А-а-а… — протянул я, словно что-то сообразил, а сам исподтишка наблюдал на ней. Нравились мне её манеры, особенно, как она проводила помадой по губам; напомнила она мне мою Наташку Крылову. Глаз нельзя было оторвать. — И что?
— А он найдёт и убьёт тебя! — зачем-то мстительно добавила она, поводя губами так, чтобы помада легла равномерно, и поправила на себе сиреневую кофточку в блёсках, с какими-то там рюшечками и складочками, за эстетизм которых я не отвечал.
Мстительно — чтобы сбить с толку, подумал я и упростился до безобразия, то есть всецело доверился ей, засунув чувство самосохранение себе в одно место — в самый глубокий карман, который имел на все случаи жизни.
Но Валесса Азиз и так была хороша, даже в съехавшей на плече кофточке, и я поймал себя на том, что неприлично долго, как, впрочем, и те из зала, пялюсь на неё.
— Отвернись! — потребовала она одним взглядом.
— Почему?
— А то я помаду проглочу! — агрессивно объяснила она.
— По-моему, он тебя бил, — напомнил я ей правду жизни и понял, что она меня раскручивает на азарте, если чисто инстинктивно — то это прощается, а если осознанно — то никакой жалости. Однако разобраться в её посылах я не успел, не дала она мне такого шанса, потому что была страшно возбуждена и суетлива, должно быть, нарочно. Есть такой приём — прятать свои чувства под камнепадом эмоций.
Читать дальше