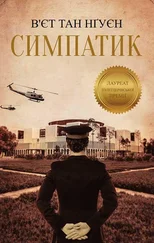Зовите, сказал комиссар. Самое трудное уже позади.
* * *
Врач поместил меня в прежнюю одиночную камеру, хотя теперь ее не заперли, а на меня не надели оковы. Я мог ходить, куда мне вздумается, но не стремился к этому; порой круглолицему охраннику стоило немалых трудов выманить меня из угла. Даже в тех редких случаях, когда я покидал камеру добровольно, это происходило только ночью: из-за конъюнктивита мои глаза не выносили мира, озаренного солнцем. Врач прописал мне усиленное питание, солнечный свет и физические упражнения, но я хотел лишь одного — спать, а когда не спал, оставался тихим и полусонным всегда, за исключением тех минут, когда меня навещал комендант. Он так ничего и не говорит? — всякий раз спрашивал комендант, на что я, ухмыляющийся в углу юродивый, отвечал: ничего, ничего, ничего! Бедняга, говорил врач. После всех этих испытаний он, как бы это сказать, слегка не в своей тарелке.
Так сделайте что-нибудь! — сердился комендант. Я делаю что могу, объяснял врач, но все это у него в сознании. И указывал на мой лоб, весь в синяках. Доктор был прав только наполовину. Разумеется, все это было у меня в сознании, но в котором из двух? Впрочем, со временем врач нащупал правильный вариант лечения — тот, что действительно помог мне воссоединить меня со мной. Возможно, сказал он как-то раз, усевшись на стул рядом со мной (я, как обычно, скорчился в углу, сложив руки на груди и опустив на них голову), возможно, вам принесет пользу ваше привычное занятие. Я посмотрел на него одним глазом. До начала эксперимента вы целые дни напролет писали свое признание. Сейчас ваше состояние таково, что вы вряд ли сможете что-нибудь написать, но попробовать стоит: уже сами привычные действия могут оказаться полезными. Я посмотрел на него обоими глазами.
Тогда он извлек из своего портфеля толстую стопку бумаги. Узнаете? Я осторожно разнял руки и взял стопку. Взглянул на первую страницу, потом на вторую и на третью, медленно перебирая их, пронумерованные вплоть до триста двадцать второй. Что это, по-вашему? — спросил врач. Мое признание, промямлил я. Абсолютно верно, мой друг! Прекрасно! А теперь я попрошу вас переписать ваше признание. Из портфеля появилась еще одна папка бумаги, а за ней и пригоршня ручек. Слово в слово. Ну как, сделаете это для меня?
Я медленно кивнул. Он оставил меня одного с двумя стопками бумаги, и очень долгое время — наверное, несколько часов — я таращился на чистую первую страницу с ручкой в дрожащей руке. А потом, высунув кончик языка, приступил к делу. Сначала мне удавалось переписывать лишь по нескольку слов в час, затем по странице в час, затем по нескольку страниц. Шли месяцы, и мои слюни капали на бумагу по мере того, как передо мной снова разворачивалась вся моя жизнь. Мой израненный лоб понемногу заживал, и, поглощая свои собственные слова, я начинал все больше сочувствовать автору этого признания, двуличному разведчику, которому едва ли хватало интеллекта даже на одну из двух его личностей. Кто он был — дурак или чересчур умный? Верный ли выбор он сделал с точки зрения истории? И не должны ли все мы задать себе те же вопросы? Или это касается только меня с собой?
Когда я завершил переписывание, ко мне вернулось достаточно разума, чтобы понять: на этих страницах ответов не найти. Когда врач пришел на очередной осмотр, я сказал, что у меня есть просьба. Какая, друг мой? Еще бумаги, доктор. Дайте еще бумаги! Я объяснил, что хочу описать и те события, которые случились после отраженных в признании, во время моего бесконечного допроса. Он принес мне еще бумаги, и я стал заполнять новые страницы описанием того, что произошло со мной в комнате для допросов. Как и следовало ожидать, мне было очень жаль главного героя. Имея два сознания, он не сознавал, что такому персонажу самое место в каком-нибудь низкобюджетном фильме, голливудском или скорее японском, про жестокий военный эксперимент, где все пошло наперекосяк. С чего вообще этот чудак с двумя сознаниями решил, будто он способен представлять даже самого себя, не говоря уж о своих упрямых земляках? В конце концов, они никогда не смогут быть представлены, что бы ни утверждали их представители. Но стопка бумаги передо мной росла, и вместе с ней во мне стало расти другое удивившее меня чувство — жалость к тому, кто все это со мной сделал. Разве, мучая меня, мой друг не мучился сам? Написав, как я выкрикнул в жаркое сияние то последнее ужасное слово, и завершив таким образом свою работу, я был уже полностью в этом уверен. Теперь мне оставалось лишь попросить у врача разрешения еще раз встретиться с комиссаром.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу