Тогда ей был двадцать один; мне тоже, и я уже два или три года крутил со «вдовушкой». Из-за которой, собственно, я и задумал бежать на Дальний Запад: мне во что бы то ни стало нужно было освободиться от этого злосчастного помешательства. Она не пригласила меня войти в квартиру, а, напротив, вышла со мной наружу и проводила до тротуара; там мы остановились и минут пятнадцать-двадцать проговорили о разных разностях. Само собой, я заранее известил ее, что зайду попрощаться, и бегло очертил свои планы на будущее. Умолчав о том, что в один прекрасный день пошлю за ней из своего далека (эта и подобные глупости так и остались несказанными). На что бы я в глубине души ни надеялся, было ясно: того, что случилось, не повернуть вспять. Она знала, что я люблю ее – это знали все, – но связь со вдовушкой решительно и бесповоротно исключила меня из круга ее потенциальных избранников. Эта связь была чем-то, чего она не могла понять, не говоря уж о том, чтобы простить.
Ну и жалкое зрелище я тогда собой представлял! Ведь даже в тот момент, найдись у меня достаточно решимости и отваги, для меня еще не все было потеряно. По крайней мере, так мне подумалось, когда я увидел потерянное, расстроенное выражение в ее глазах. (И, видя это выражение, продолжал бодро и нелепо разглагольствовать о славе Золотого Запада.) И, вполне сознавая, что, скорее всего, вижу ее в последний раз, не решился заключить ее в объятия и подарить ей последний, страстный поцелуй. Вместо этого мы всего лишь пожали друг другу руки, пробормотали несколько невнятных прощальных слов, и я двинулся прочь.
Я ни разу не обернулся. Но ни минуты не сомневался в том, что она все еще стоит у ворот, провожая меня взглядом. Дожидаясь, когда я исчезну за поворотом, чтобы ринуться к себе в комнату, броситься на постель и от всей души зарыдать? Этого мне не узнать ни на этом, ни на том свете.
Спустя еще год, когда я, погрустневший и умудренный опытом, вернулся с Запада, чтобы опять оказаться в объятьях вдовушки, от которой бежал, мы ненароком еще раз столкнулись. В последний раз. Дело было в трамвае. Повезло еще, что со мной был один из старых друзей, хорошо ее знавший; в противном случае я бы смутился и ретировался. После нескольких необязательных слов мой приятель полушутя обронил: может, пригласишь нас с другом к себе домой? Теперь она была замужем и, как ни трудно в это поверить, жила как раз по другую сторону дома, где обитала вдовушка. Мы поднялись по высокой каменной приступке и вошли в ее квартиру. Она показала нам одну комнату за другой и, в завершение осмотра, спальню. А затем, смутившись, обронила нелепую фразу, пронзившую меня острее ножа. «А здесь вот, – пояснила она, указывая на большую двуспальную кровать, – мы спим». В этот миг между нами словно опустился железный занавес.
Таким был для меня финал. Но не совсем финал. Ибо на протяжении всех минувших лет она оставалась для меня женщиной, которую я любил и потерял, недостижимой. В ее фарфоровых глазах, таких холодных и зовущих, таких огромных и прозрачных, я вновь и вновь вижу себя – вижу нелепым, одиноким, бесприютным, неугомонным художником, человеком, влюбившимся в любовь, вечно одержимым поисками абсолюта, вечно взыскующим недостижимого. Как и прежде, по ту сторону железного занавеса ее образ свеж и отчетлив, и ничто, кажется, не в силах его омрачить или заставить поблекнуть.
Когда моя рука тянется к револьверу
Перевод З. Артемовой
Покойный Джон Дадли, потомок графа Эссекса, однажды начертал мелом на моей двери: «Когда я слышу слово „культура“, моя рука тянется к револьверу». Сегодня, стоит кому-либо начать твердить, что с Европой, мол, все кончено, я испытываю то же побуждение – дотянуться до револьвера и пристрелить его. Меня, как никого другого, до дрожи восхищала эта монументальная морфологическо-феноменологическая поэма «Закат Европы». В те дни, когда Культура была всего лишь птичкой в золоченой клетке, когда – увы, так давно – мне казалось, что я уже пережил все страдания Вертера, ничто так не ласкало моего слуха, как эта мелодия гибели. Но ныне я оказался по ту сторону гибели: гибели Европы, гибели Америки, гибели всего на свете, включая Золотой Запад. Я живу уже не по летнему, не по сезонному, даже не по звездному времени. Я чувствую, что мертвые еще с нами, готовые в любую минуту восстать из могил; чувствую, что с ними заодно и живые, с дьявольской радостью тычущиеся во все эти скелеты. Вижу, как Индия и Китай, много веков якобы спавшие смертным сном, несмотря на постоянный прирост многомиллионного населения, сегодня, по общему признанию, возрождаются, причем набирают обороты, я бы добавил, с устрашающей быстротой.
Читать дальше
![Генри Миллер Замри, как колибри [сборник] обложка книги](/books/423532/genri-miller-zamri-kak-kolibri-sbornik-cover.webp)




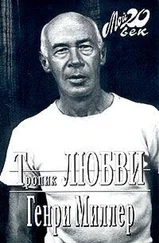


![Генри Миллер - Этот прекрасный мир [сборник]](/books/416436/genri-miller-etot-prekrasnyj-mir-sbornik-thumb.webp)
![Генри Миллер - Мудрость сердца [сборник]](/books/423531/genri-miller-mudrost-serdca-sbornik-thumb.webp)