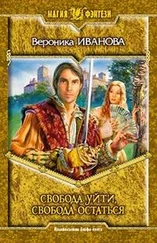Евгений Каминский - Свобода
Здесь есть возможность читать онлайн «Евгений Каминский - Свобода» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2018, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Свобода
- Автор:
- Жанр:
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Свобода: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Свобода»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Свобода — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Свобода», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
По институтскому коридору он без надобности не ходил (поговаривали — людей не любит), разве что с эмалированным заварочным чайником — в туалет, выплеснуть в унитаз спитой чай, чтобы у себя в комнатенке заварить новую пачку. Сидел, писал отчеты, отзывы, экспертные заключения, строил карты, слушал младенческий лепет молодых специалистов да сетования на начальство стариков. Если была необходимость идти в зал заседаний или в столовую — шел, рассеянно глядя вперед или себе под ноги, изредка отвечая на чье-то приветствие коротким кивком головы. Мимо некоторых коллег проходил так, словно тех не существовало в природе (возможно, это был кто-то из учеников, некогда упекших дорогого учителя на Колыму), пусть даже при встрече все они театрально раскидывали руки для объятий и сладко улыбались. На заседаниях ученого совета садился с краю и немного вполоборота к членам ученого совета — не ко всем, конечно, к некоторым. Лишь бы эти некоторые не попадали в его поле зрения. Когда же эти некоторые выступали — солидно, размеренно, по делу, с мягким барским юмором, — Олег Васильевич всегда испытывал и неловкость, и раздражение, и легкую брезгливость, и даже стыд, словно кто-то при нем тащил у кого-то из кармана часы на цепочке, а он делал вид, что не видит этого. Нет-нет, произносимые этими людьми слова были вовсе не вредны для дела. Напротив, с точки зрения науки это были необходимые слова, прекрасные слова, предполагавшие какой-то новый этап исследований, открывавшие какие-то новые горизонты познания. Но все это не имело никакого значения для Олега Васильевича, поскольку произносивший их человек, пусть даже и не укравший их у кого-то, не имел на них морального права, не должен был к ним прикасаться, потому что непременно испачкал бы их, заразил чем-то постыдным одним своим прикосновением. Так в глубине души считал Воронцов.
Но ведь давно прошла, миновала людоедская эпоха пожирания одних другими, ради лучшей жизни на земле. И теперь всякий иуда искариот получал возможность вновь стать благословенным апостолом и добропорядочным членом ученого совета. Ведь прежний-то, некогда оговоривший, ошельмовавший, предавший и совсем немного, совсем чуть-чуть присвоивший себе из наследия преданного и ошельмованного, умер вместе с той эпохой, в которой, конечно же, надо было и оговаривать, и шельмовать, и предавать, чтобы самому остаться не оговоренным, не ошельмованным и не преданным.
Как-то в институте чествовали Олега Васильевича (не могли не чествовать — дата такая, да и заслуги нешуточные, хотя это всегда было сопряжено с некоторым нервным напряжением в руководстве института: сей колючий, неудобоваримый старик до сих пор жил и, кажется, не собирался умирать), и один из заместителей директора, только что произнесший фальшивую, как восковая фигура, речь в адрес юбиляра, вдруг подошел к нему, обнял и поцеловал его, обомлевшего, в губы. И тут все услышали хрипотцу лагерного доходяги: «Поцелуй Иуды!» Сказав это, юбиляр вытер губы рукавом пиджака и повернулся к иуде спиной…
Ничто не забылось и едва ли забудется. А если все же забудется, к чему призывают, на чем настаивают, чего так желают все те, кто не хотят, чтобы помнили, там, где все встретятся, испуганно вглядываясь друг в друга, — непременно вспомнится.
«Поставили бы всех нас власти и престолы в две шеренги, друг против друга, — распалялся Олег Васильевич в споре с одним из стариков отдела, чудом проскочившим людоедскую эпоху и отделавшимся легким испугом (возможно, эпоха просто проглядела его: и без него дел у нее было навалом), призывавшим всех примириться по-христиански и все забыть, — их, нас там стороживших, и нас, там при них подыхавших, может, и не по их воле, но под их присмотром, и сказали б нам: «Братья, забудьте все злое и беспощадное, и простите друг друга!» Друг друга! То есть и жертва виновата перед палачом в том, что она — жертва! И простили б? Никто никого ни за что! Ни мы их, ни они нас. Они нам не простили бы то, что мы выжили и можем рассказать, что они делали с нами, чтобы мы не выжили и, значит, не смогли рассказать об этом, и еще то, что мы живем и одним этим напоминаем им, кто они такие на самом деле. Отцы, супруги, граждане, радеющие о процветании родины? Наверное. Наверняка! И при этом — зверюги, как бы ни прижимали к груди и ни целовали в уста собственных жен и младенцев.
И мы б их не простили. Потому что простить их — значит, признать, что не было ничего страшного в том, мучительном и страшном. Что просто одним выпало сажать тех, кому выпало сидеть, что сам в себе человек не волен, что он лишь — замысел, живущий по промыслу. И кто-то живет для того, чтобы его грызли заживо, и он бы терпел изо всех сил, стараясь остаться человеком, даже если ему очень хочется сделаться зверем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Свобода»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Свобода» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Свобода» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.