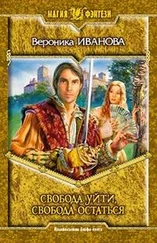Ему тогда стало даже весело. Это, конечно, не внезапная госпитализация с перитонитом. Но все ж теперь он не летит на остров, причем не по своей воле, что, конечно, расстроит Юрия Юрьевича, его нового задушевного товарища, зато сам Щербин избежит назначенной ему участи. Пожалуй, через пару дней он подаст заявление по собственному желанию, если только прежде Юрий Юрьевич не попросит его на выход. И оказавшись свободным как птица, вплотную займется своей диссертацией, и уже через полгода — не больше (сколько бы ни пугал его Юрий Юрьевич своими длинными руками) — непременно защитится и станет еще более свободным, еще более независимым и одновременно еще более необходимым…
В отделении фельдшерица, обследовавшая его на предмет степени опьянения, доказывала что-то дежурному сержанту и его подручному ефрейтору — «калиточному», ведавшему в этом заведении «калитками» (камерами для подвыпивших граждан, хулиганов и прочей мелкой рыбешки). Она даже всхлипывала, пытаясь отстоять право Щербина самому дойти до дому, но злобные, только что пережившие тяжкое похмелье ефрейтор с сержантом, желавшие побыстрей накатить по новой, только раздували на скулах желваки — они уже видели деньги Щербина (увы, деньги от них можно было спрятать в заднем проходе, предварительно свернув купюры в трубочку, хотя эти представители правопорядка несомненно откопали бы их и там), довольно солидную сумму, и у них имелось несколько отработанных приемов освоить эти деньги, так что судьба Щербина, сколько бы ни плакала фельдшерица, на сегодняшнюю ночь была решена.
Раздетый до трусов, он сидел в одиночестве на койке в камере, где было восемь кроватей, и, глупо улыбаясь, смотрел на светящую синим светом лампочку под потолком, потому что смотреть в окно было невозможно — оно за решеткой было наглухо зашито жестью. К Щербину в камеру уже дважды врывались сержант с ефрейтором, с красными рожами, кажется, успевшие раздавить первые пол-литра за его счет и сейчас ждавшие от него негодования, неповиновения, укоризны или хотя бы взгляда, в котором читалось бы сожаление, чтобы наброситься на него и забить дубинками до беспамятства, затоптать. И уже утром с полным правом выставить ему в качестве «предъявы» сопротивление властям, неповиновение, бунт и еще что-нибудь этакое. Так, чтобы «клиент» был бы уже рад расстаться со своими деньгами, лишь бы только замять дело и разойтись миром со стражами правопорядка, а не хлебать позор унижения, давая показания следователю, не заглядывать с жалкой надеждой на ментовскую справедливость в бессовестные глаза. Мол, вы-то ведь честный человек, я это вижу, и вы, конечно, понимаете меня, законопослушного человечка… И при этом все время оправдываться, оправдываться, оправдываться, уже в самом деле чуя за собой какую-то страшную вину.
В последний раз «калиточный» с сержантом вошли к нему в камеру с явным намерением наконец решить дело. Бордово-красные пьяные физиономии, в руках у каждого была дубинка. Щербин испугался. Ситуация была для него понятной: эти двое собирались избить его, а он не имел права оказать им сопротивления. Потому что сопротивление им было незаконно, потому что оно истолковывалось тут как преступление, и за это пьяные стражи правопорядка имели право избить до полусмерти и даже убить его. Стараясь не смотреть на служителей закона, Щербин попятился к стене, и один из них, кажется, решился. Нужно было немедленно что-то предпринять, найти слова, которыми можно было их успокоить (может, улыбнуться и бодро сказать что-нибудь нейтральное), но любое слово, любой жест в их адрес сейчас подействовал бы на ситуацию как спусковой крючок. Все, что мог сейчас предпринять Щербин, стреляло ему в голову. И тут перед ним возник старик Зайцев со своим советом сломать игру.
Глядя в стену перед собой, подрагивающим голосом Щербин принялся читать наизусть то, чему когда-то учил свою маленькую дочь: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его…» И сержант с ефрейтором окаменели, встали как вкопанные, не зная, что им теперь делать, растерянно глядя друг на друга. Это было неслыханно, поскольку то, что произносил сейчас Щербин, не относилось к делу. Но именно это, неслыханное, гнало мурашки по их спинам, будто оба они, защищенные инструкцией, законом, формой, табельным оружием, вдруг попали куда-то туда, где вся их власть ничего не стоит, где известные им законы не действуют и где все уже не так…
Читать дальше