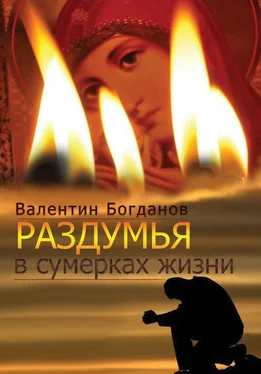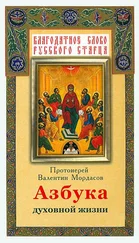Ещё совсем недавно любой из нас, зайдя в кабинет начальника, даже среднего уровня, мог увидеть в углу его кабинета огромный шкаф или несколько шкафов, туго набитых всеми томами сочинений Основоположника, которые начальник никогда не читал, тем более не считал нужным тратить своё драгоценное время на изучение этих талмудов.
Однажды я спросил очень большого «важняка», известного не только в нашей области, но и далеко за её пределами, находит ли он время заглядывать в некоторые тома нашего Вождя, чтобы в своей работе не сбиться с намеченного курса? По общеизвестным причинам его откровенный ответ публиковать я постеснялся. Но вот причуда, меня с той поры в его кабинет никогда больше не пускали. Не знал я тогда, что задавать подобные вопросы любому начальнику считалось верхом невежества, поскольку ни один из них не мог ответить на вопрос, даже поверхностно, об основных принципах Основоположника в его многочисленных работах. И мне однажды подумалось, что моих невольных знакомых, бывших сидельцев тюрьмы особого режима, следовало бы тогдашнему главе погибающего государства назначить экзаменаторами самой высокой авторитетной комиссии, чтобы они строжайшим образом проэкзаменовали всех академиков – марксистов на предмет выяснения, кто из них достойно носит это звание. Остальных, не сдавших экзамен, надо было отправить на их место в одиночную камеру тюрьмы особого режима, чтоб они там по-настоящему изучили работы Основоположника, и вполне возможно, что наш нерушимый Союз не рухнул бы так скоропостижно, как карточный домик. Но не додумался наш партийный полководец и многократный герой всех времён и народов до такой мудрости, потому что сам был по старческому слабоумию на уровне своих прикормленных академиков-марксистов, неисправимо зашибленных краснотой.
Тюмень, 2010 г.
«Дорогу осилит только вперёд идущий».
В войну на передовой я отвоевал одну неделю и был тяжело ранен.
Так что рассказывать о войне мне вроде бы и нечего. Такая вот судьба выпала, что живым остался, хотя шансов на это не было никаких.
Ранило меня осенью сорок второго, ночью, когда выбрался из землянки по нужде, а шальной снаряд тут и гвазданул неподалеку от меня – я и свалился без сознания. Стояли мы в ту пору в обороне возле Волхова, в болотистых лесных местах, – самом, наверное, гиблом месте на войне, навеки проклятом всеми, кто там воевал и остался живым.
Полегли здесь целые дивизии. И не cтолько, пожалуй, от боев, сколько от болезней, да от голода и холода, оттого, что нас бросили штабы. Копнешь, бывало, ту землю лопатой на штык, сразу вода появляется, сверху тоже мокрит, а из-за нашей извечной голодухи жрали все подряд: и бруснику, и клюкву (полно ее было), и воду пили из болот, буроватую и вонючую. И как начала нас косить дизентерия, спасения не было! Почти поголовно в лежку лежали бойцы по сырым землянкам, исходили в тяжких муках от дизентерийной эпидемии и безмолвно умирали и умирали. И немцы таких в плен не брали, истребляли на месте.
Вот на такую гибельную, почти безлюдную позицию нас и бросили той тяжкой осенью, где и спрятаться-то негде было от огня противника. А мы ответного огня по немцам не могли открывать, у нас лимит, два снаряда на орудие в день положено, а после хоть мухобойкой отбивайся.
Не помню, как меня оттуда вытаскивали, как везли. Наверное, такая возможность еще была, сказать не могу. Осколком снаряда разворотило мне тогда скулу и глаз вышибло, ключицу перебило, да вдобавок контузило. Долго потом приходил в себя, узнавал, что я – это я, рядовой боец Хвойников Николай Филиппович, тыща девятьсот двенадцатого года рождения, из деревни Боровлянка Красноярского края. Много всяких операций перенес я за полгода в разных госпиталях, да рассказывать об этом сейчас без надобности.
За месяц до выписки меня перевезли из города Кирова в госпиталь Кургана, вроде на окончательную поправку, а при выписке из госпиталя был демобилизован вчистую, как инвалид первой группы. При выписке выдал мне старшина кавалерийскую шинель, длиной до пяток, почти изношенную и обтрепанную снизу, да затасканный красноармейский шлем с подшлемником. А вот из обувки вручил американские ботинки последнего размера, из красноватой кожи буйвола, а в придачу к ним стираные перестиранные обмотки и две пары новых портянок.
Приобулся я этось, приоделся, ремнем потуже затянулся, потопал ботинками по полу для верности и сунулся к зеркалу на свой походный вид глянуть. И как глянул, так и ахнул, рот от удивления в немоте раскрыл. Наверное, от охватившей меня растерянности повернулся к старшине, тот, взглянув на меня, остолбенел, открыл рот и выдохнул, качая от изумления головой: «Ну вылитый гегемон революции! Гегемон и только! Лучше не придумаешь»! И, видно, от жалости ко мне как живому гегемону выбрал из всякого барахла на складе более справную фуфайку взамен уже надетой, старенькой и выношенной почти до полного истирания. После она меня хорошо выручила, можно сказать, спасла от гибели на морозе с ветерком, в пути до своей деревни. А что самое худое было в моём обличье, так это оставшийся один глаз, шибко он грозно буравил с обезображенного лица; человеку, взглянувшему на меня, наверное, казалось, что я вот-вот на него в драку кинусь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу