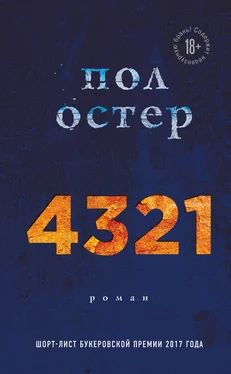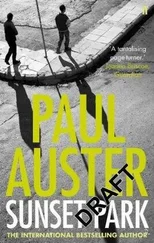При этом мать Фергусона делала все возможное, чтобы и дальше снимать, но ей приходилось работать и днем — фотографировать танки, солдат и теперь уже разгромленные предприятия черных по всему Центральному району, сотни снимков, документировавших все аспекты столкновения, какие она считала значимыми, а поскольку отец Фергусона вогнал себя в панику насчет безопасности Розы, он теперь настаивал на том, чтобы всюду ее сопровождать, куда б та ни отправилась, и все те три дня из такого решения следовало то, что он сидел с нею на заднем сиденье старой «импалы», а Фергусон катал родителей по всему городу, а затем, с приближением комендантского часа, завозил катушки непроявленной пленки в здание редакции «Стар-Леджера», после чего возвращался в квартиру на спокойной Ван-Велсор-плейс. Сквозь ужас тех дней восхищение Фергусона матерью продолжало расти. Чтобы сорокапятилетняя женщина, которая всю жизнь была портретисткой в ателье, а в журналистике начала работать, снимая приемы в садах предместий, могла отправиться делать то, что она делала сейчас, поражало его как одно из самых невероятных человеческих преображений, какие он когда-либо наблюдал. Вот что служило ему единственным утешением, поскольку от всего остального в тот период его тошнило, душе его было тошно, его выворачивало наизнанку, тошнило от мира, в котором он жил, и легче не становилось оттого, что его отец каждый вечер бесился из-за них , проклятых шварцес, и того, как ненавидят они нас , евреев, и это конец всему, объявлял он, он будет ненавидеть их в ответ веки вечные, с этого мига и дальше, ненавидеть их яростно каждую минуту, покуда не настанет тот день, когда он умрет, и вот во время одной такой тирады Фергусону стало до того противно, что он вышел из себя и велел отцу заткнуться, чего прежде никогда в жизни себе не позволял.
Войска вывели семнадцатого, и к тому времени, как последний танк покинул город, война завершилась.
Все остальное тоже закончилось, по крайней мере — для евреев Виквоика, которые, казалось, разделяли воззрения отца Фергусона на то, что произошло, и за шесть последовавших месяцев почти ни одной семьи в районе больше не осталось, некоторые переехали в ближайший Элизабет, другие направились в предместья округов Эссекс и Моррис, и в районе, бывшем некогда целиком еврейским, не стало ни одного еврея. До чего странно, что большинство родителей и прародителей черных, живших в Ньюарке, приехали сюда с Юга во времена Великой миграции между войнами, а вот теперь, поскольку фотоснимки беспорядков, которые сделала его мать, оставили определенный след в мире, и ей предложили новую работу в «Майами Геральде», его родители менялись местами с их черными соседями и сами направлялись на юг.
Ужасно было смотреть им вслед.
Осень 1967-го . Что-то в солнечном свете, или свете звезд, или лучах луны в Калифорнии высветлило волосы Эми и затемнило цвет ее кожи, и она вернулась в Нью-Йорк с бровями и ресницами бледнее, светлее, а щеки ее, руки и ноги излучали более смуглое сияние, золотисто-бурое, цвета только что испеченного кекса или ломтя теплого, намасленного тоста. Фергусону хотелось ее съесть. После двух с половиной месяцев мук целибата ему вечно было мало ее, а поскольку и она целое лето голодала, играя роль, как она выразилась, монашки без поблажек , то пребывала в необычайно легковозбудимом состоянии, готова была давать ему столько же, сколько он был готов давать ей, и Фергусон, понимавший теперь, что унаследовал большую часть, если не все неутолимые аппетиты своего деда, готов был отдавать ей все, что в нем было, чем и занимался, и Эми занималась тем же, так же, и три дня подряд после того, как она вернулась в квартиру на Западной 111-й улице, она разбила лагерь на двуспальной кровати у нее в комнате и заново знакомились с той неведомой силой, что удерживала их вместе.
Тем не менее кое-что поменялось, и не все это Фергусону пришлось по вкусу. Для начала, Эми влюбилась в Калифорнию или, по крайней мере, в ту часть Калифорнии, что была Районом Залива, и девушка, которой раньше совершенно не по силам было покинуть Нью-Йорк, теперь деятельно раздумывала, не подать ли ей документы в юридический институт в Беркли на следующий год. Дело не в юриспруденции. Фергусон был целиком и полностью за то, чтоб она стала юристом, это они много раз уже обсуждали в прошлом, адвокатом бедняков, юристом-активистом, такая профессия позволит ей принести миру больше пользы, чем организацией антивоенных демонстраций или забастовок квартиросъемщиков против алчных, безответственных хозяев жилья, поскольку война неизбежно однажды закончится (надеялась она), и гораздо больше удовлетворения в том, чтобы засадить алчных домохозяев в тюрьму, нежели умолять их включить отопление, или извести крыс, или содрать свинцовую краску. Само собой, стать юристом — но Калифорния, о чем это она? Разве она не помнит, что на следующий год он еще будет в Нью-Йорке? Разлука на все лето и без того паршива, но целый год в разлуке — он от этого с ума сойдет. И с чего она взяла, что ему захочется ехать за нею в Калифорнию после того, как он закончит учебу? Неужели она не может пойти в разумный юридический институт, типа Колумбии, или УНЙ, или Фордама, и остаться с ним в квартире? Зачем все так, блядь, усложнять?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу