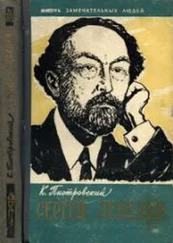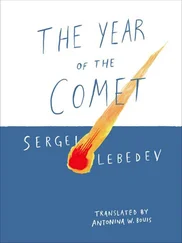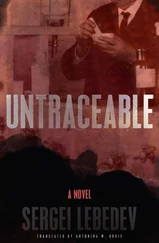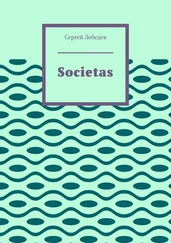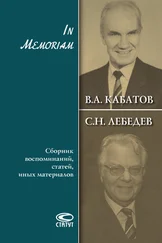Нижнее белье и письма, обувь, книги, пальто, посуда, ткани и нитки, документы, письменные принадлежности, фотографии, столовые приборы, шляпы – все валялось на полу, пересыпанное прелым скомканным пухом из вспоротых перин и подушек, как будто тут убили и ощипали большую птицу, жирного гуся.
И все эти вещи – царские погоны отца, старый немецкий сонник матери, фарфоровые сусальные ангелочки, немецкий алфавит, по которому Каролина училась в детстве, жестяные коробки из-под конфет, где хранилась всякая мелочевка, с немецкими надписями; письма на немецком, книги на немецком, немецкие гравюры, немецкие учебники по хирургии – все эти вещи в глазах следователей ясно говорили, кто тут живет, как будто было недостаточно фамилии Швердт, чтобы уличить, обвинить и приговорить.
Кирилл держал в руках следственное дело прадеда; дело Аристарха Железнова, кадрового сотрудника органов, ему не дали, оно до сих пор было засекречено, не помогли ни протекция, ни обещание взятки.
Аристарх на допросе сообщил, что встречался с Арсением Швердтом, получая от него шпионские донесения; что они оба были агентами немецкой разведки еще до революции и именно поэтому он выдал Швердту охранную грамоту от имени ВЧК.
Кирилл открывал страницы подшитых показаний. Видел, как от даты к дате менялась подпись Арсения – скорее всего, прадеда били; полтора месяца в допросных казематах – и он подписал все.
Кирилл знал, что он тоже бы сломался, и, скорее всего, сломался бы раньше. Он рассматривал как подвиг саму длительность безнадежного сопротивления, сам факт, что дни и недели Арсений все-таки держался, пусть и сдался в конце концов. Но то время, пока он не сдался, отмеренное страницами дела, стало для Кирилла посланием: не надеяться, но терпеть.
Родным сообщили, что Арсений получил десять лет без права переписки; на самом деле он был расстрелян в декабре того же года, и тело его сожгли в печи Донского крематория.
Братья Глеб и Борис, оба уже красные командиры, получили срочные телеграммы об аресте отца в один день. Глеб был капитан-артиллерист, служил под Киевом, Борис был майор танковых войск, и часть его стояла под Ленинградом.
Тихий, отчужденный от семьи Глеб. Он, кажется, с детства не мог простить родителям вынужденную трехлетнюю разлуку, ссылку во Владимир к деду-священнику; домашнему властелину, начетчику, в чьем доме дети дочери, ставшей Швердт, жили почти на правах приемышей.
Он дал согласие на брак, рассчитывая, что новые богатые родственники не оставят его и родню своим попечением. Андреас и вправду много сделал для них, взял работать на заводы, устроил молодых отпрысков в университет; но началась война, акции немецкой партии пошли вниз, священнослужители с алтарей были обязаны обличать бесовское воинство Вильгельма-Антихриста, и старый священник приступил к делу с неистовым рвением, представляя вместо лица чужого императора лицо Железного Густава, богатея и чужеверца.
Глеб и Борис были очень похожи, но старик-священник разделил их; полагал Бориса нашенским, семейным, а Глеба – порченым, считая, для удобства своих негибких, не знающих полутонов чувств, Бориса целиком русским, а Глеба полностью немцем.
Поэтому Борису совсем иначе жилось во Владимире, чем Глебу. Но дело было не только в случайности, определившей, кому быть козлом отпущения, и не в младшинстве-старшинстве.
У Бориса был невесомый, струящийся характер, и он умел расположить к себе, безусловно признавая власть взрослых, находя в послушании повод для обретения похвал и наград, хотя и не брезгуя малыми шалостями; характер практический, не склонный к мечтаниям. А Глеб унаследовал некоторые черты Бальтазара-апостола, в первую очередь самостоятельность и готовность к одиночеству.
Характеры и разделили братьев, хотя не истребили братских чувств. Из трехлетнего владимирского сидения Борис привез приязнь ко своей второй семье и насмешливое отчуждение от немецких корней. Примечательно, что деду-священнику не удалось заронить в его душу зерен православной веры, хотя Борис с охотой посещал службы; мальчик оставил православие там, во Владимире, – как отслужившую свое одежду, и впоследствии первым отказался молиться, ходить к причастию и снял крест.
А Глеб, наоборот, стремился к православным таинствам, и дедушка-священник брал его в церковь, видя в православной вере единственное средство спасти онемеченную, отравленную душу. Но храмы, древний Успенский собор или маленькая Сретенская церковь, как бы не впускали мальчика; то он заболеет ветрянкой, заразившись от ложечки с кагором, которой касались чужие губы, то упадет в обморок от духоты и чада свечей. Возможно, Глеб мистически переживал введение во храм, но дед-священник, естественно, видел в происходящем знаки, указующие на истинную, греховную природу ребенка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу