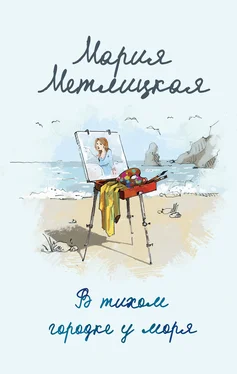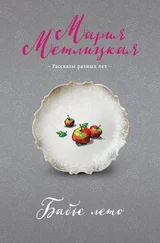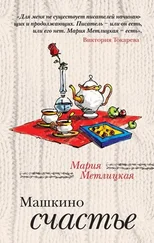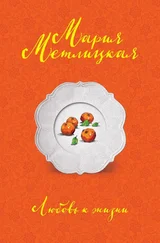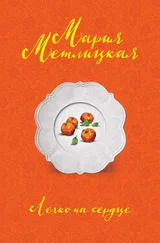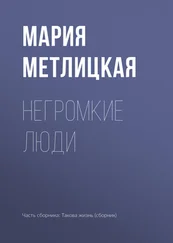После купания она усаживалась рядом с ним, и они оба молча смотрели на море.
На обратной дороге он покупал Асе мороженое.
О том, что Любка пьет, Иван узнал спустя год после их совместного проживания. В тот день увидел до смерти перепуганную Асю – глаз на него она не поднимала, почитать и на море не просилась.
На вопрос, что случилось, опустила глаза и прошептала:
– Мамка… она… болеть начала.
– Может, врача? – предложил он.
– Не, не поможет. Теперь… пока сама не справится.
И до него наконец дошло.
– Что делать, Ася? – спросил он. – Ты же знаешь, как это бывает? Ну, в смысле как проходит – прости. Может, все-таки врача? – с сомнением повторил он.
– Не надо врача, – твердо повторила она. – Мамка сама…
Иван слышал, как Любка стонет и кричит, требуя выпивки. Как беснуется Изергиль, понося дочь последними словами, такими, что ему, взрослому, повидавшему виды, битому жизнью мужику, захотелось закрыть уши. Слышал, как отвечает, словно отплевывается, Любка – тоже с жестокими оскорблениями и обвинениями, от которых кровь стыла в жилах. Видел насмерть перепуганную, мечущуюся девочку, трясущимися руками пытающуюся приготовить матери горячий суп.
А однажды поутру увидел, как Ася тащит авоську, в которой позвякивали зеленые бутылки с серебряной «бескозыркой». В ужасе, забыв о своей палке, он бросился к девочке и вырвал из ее рук авоську. Впервые вбежав в хозяйский дом, он увидел Любку.
Полуголая, в одних трусах, с опухшим и незнакомым лицом, она лежала на полу и громко стонала.
– Люба! – отчаянно закричал он. – Как же так, Люба? Что же ты делаешь?
Она медленно повернулась к нему, открыла заплывшие глаза и, разомкнув губы, обметанные белой пылью, выдавила из себя:
– Уйди. Не твое дело, моя жизнь. – И, скривившись, заплакала: – Плохо мне, Ваня. Помираю. Ну и хорошо, и слава богу.
Он беспомощно огляделся, сел на шаткий стул и, не понимая, что делать, в бессилии спросил:
– Может, все-таки в больницу, а, Люба? Ну, хоть как-то…
Она отчаянно замахала руками.
В те дни, отправив Асю в хижину, он ночевал в хозяйском доме.
Любка пила десять дней. На одиннадцатый, когда он открыл очередную поллитровку, сказала:
– Все, Ваня. Не надо. Теперь я… сама.
Он помог ей подняться, дотащил до дощатой будочки с душем, откуда она вышла спустя полчаса, налил тарелку густых горячих щей:
– Ешь, Люба. Ешь. Стразу станет полегче.
Он смотрел на нее, все еще опухшую, с отекшими веками, с мокрыми, раскиданными по плечам роскошными, блестящими волосами, смотрел на ее пухлые, гладкие, смуглые плечи и снова ничего не понимал. Откуда у этой красивой и ладной женщины такая невыносимая, нечеловеческая боль и тоска?
Он видел, с какой болью, страданием и надеждой смотрит на нее Ася:
– Все? Все закончилось? Ну наконец-то!
Через два дня Любка, свежая и красивая, с гордо поднятой головой, прошла мимо него, коротко бросив:
– Я на работу.
Она пришла к нему через три дня. Ночью, когда он беспробудно спал, с трудом приходя в себя от усталости и кошмара последних дней. Он услышал ее шаги, уловил ее запах: мыла и каких-то дешевых, невыносимо сладких духов. И давно позабытый запах женщины.
Он вздрогнул, не решаясь открыть глаза и обнаружить себя, мучительно думая, что ему делать. Сердце стучало как бешеное.
– Не прогоняй меня, – хрипло сказала она. – Прошу тебя, не прогоняй.
Иван чуть отодвинулся к стене, и Любка легла рядом – дрожащая, горячая, гладкая. Чужая. И – своя.
Утром ее рядом не было. Он услышал тянущиеся со двора знакомые запахи – пригорелой каши и сбежавшего молока.
И знакомые окрики:
– Аська! Где ты, зараза? Иди накрывай! Что я тебе, служанка?
Он долго не выходил из хижины, и мысли бестолково толкались и бились, как мухи о стекло. «Наверное, надо искать комнату, – подумал он, – потому что мне это точно не нужно. Но как лениво и как не хочется! И Ася… Не хочется с ней расставаться. Но, наверное, по-другому никак не получится, жизнь снова расставляла ловушку».
За завтраком было все по-прежнему, никаких изменений.
Любка ворчала, покрикивала на мать и на дочь, заваривала чай, ругалась на плиту:
– Опять все горит, зараза!
Гнала Асю за хлебом:
– Куда смотришь? Твоя обязанность. Я все должна помнить и напоминать?
Тыкала матери на гору нестираного белья:
– Живешь тут на халяву, совсем совесть потеряла.
Бабка шамкала черствой горбушкой и лениво отбрехивалась:
– Ага, сама шибко устала водку хлебать! Вот сама и стирай.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу