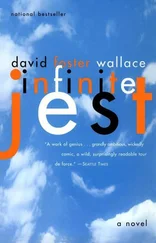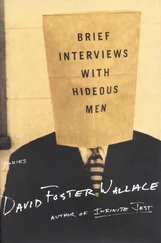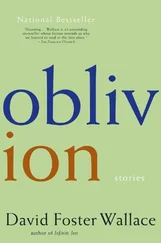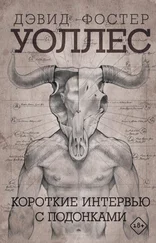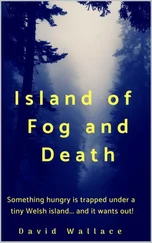И кофейный столик из черного мрамора с зелеными прожилками, неподъемный, об угол которого Марио выбил зуб после, как клялся Орин, случайного столкновения.
Варикозные икры миссис Кларк у плиты. Как высоко наверху поджимались ее губы, когда Маман что-то меняла на кухне. Как я съел плесень и как Маман расстроилась, что я ее съел, – это воспоминание о том, как эту историю рассказывает Орин; сам я не помню, чтобы ел в детстве плесень.
Мой верный стакан НАСА все еще покоился на груди, поднимаясь с грудной клеткой. Когда я опускал на себя взгляд, круглое отверстие стакана казалось узкой щелью. Это из-за оптической перспективы. Существовал какой-то емкий термин для оптической перспективы, который я опять же не мог сформулировать.
Восстановить гостиную старого дома в памяти было особенно тяжело потому, что так много вещей из нее теперь стояло в гостиной Дома ректора, – вещей тех же, но изменившихся, и не только из-за расстановки. На ониксовом кофейном столике, на который упал Марио (спекулярный, вот что относится к оптической перспективе; вспомнилось сразу, как только я перестал вспоминать), теперь были компакт-диски, журналы про теннис и ваза в форме виолончели с сушеным эвкалиптом, и подставка для елки из красной стали на зимний сезон. Столик был свадебным подарком от матери Самого, которая умерла от эмфиземы незадолго до неожиданного появления на свет Марио. Орин сообщал, что она была похожа на забальзамированного пуделя – сплошь шейные связки, жесткие белые кудряшки и глаза, которые сплошь зрачок. Родная мать Маман умерла в Квебеке от инфаркта, когда ей – Маман – было восемь, а ее отец – во время ее второго курса в Макгилле при неизвестных нам обстоятельствах. Коротышка миссис Тэвис все еще жила где-то в Альберте – изначальная картофельная ферма в Л'Иле оказалась в Великой Впадине и была утеряна навсегда.
Орин, Бэйн и прочие на Семейной викторине в ту ужасную метель первого года, Орин пародировал пронзительное, со срывающимся дыханием «Мой сын это съел! Господи, помоги!», и ему никак не надоедало.
Еще Орин любил воссоздавать для нас жутковатую кифотическую сутулость матери Самого и как она, в инвалидной коляске, манила его к себе клешней, какой она казалась скомкавшейся вокруг груди – будто ее пронзили копьем. Вокруг нее висела атмосфера сильного обезвоживания, говорил он, словно она осмозировала влагу любого, кто находился рядом. Последние годы она провела в особняке на Мальборо-стрит, где семья жила до нашего с Марио рождения, под уходом геронтологической медсестры, у которой, по словам Орина, всегда было выражение лица, как с любого фото «Их разыскивают» на почте. На случай если медсестры не было, на коляске пожилой женщины висел серебряный колокольчик, чтобы звонить, когда она не могла дышать. Веселый серебряный звон извещал наверху об асфиксии. Миссис Кларк до сих пор бледнела всякий раз, когда Марио спрашивал ее о миссис Инканденце.
С тех пор как Маман стала все реже и реже покидать стены Дома ректора, замечать климактерические изменения в ее теле стало проще. Все началось после похорон Самого, но поэтапно – постепенные уход в себя и нежелание покидать кампус, и признаки старения. Трудно замечать то, что у тебя каждый день перед глазами. Ни одно физическое изменение не было каким-то драматическим: ее подвижные ноги танцовщицы становились жесткими, жилистыми, бедра усыхали, талия утолщалась. Лицо на черепе опустилось чуть ниже, чем четыре года назад, с легким утолщением под подбородком и проявляющимся потенциалом какой-то чопорности у губ, в свое время, как мне казалось.
Словосочетание, которое лучше всего описывает феномен щелистости отверстия стакана, – наверное, «перспективное сокращение».
Инфантилист из КЦР наверняка поддержал бы старину специалиста по горю в вопросе, как себя чувствует человек, Маман которого стареет у него на глазах. Такие вопросы становятся практически коанами: приходится врать, потому что по правде ответ – «Никак», а в терапевтической модели это считается хрестоматийным враньем. Жестокие вопросы – те, что вынуждают тебя врать.
То ли наша, то ли соседская кухня была обита каштановыми панелями и завешана формами для паштета и букетами гарни. На этой кухне стоит неопознанная женщина – не Аврил и не миссис Кларк – в облегающих вишневых слаксах, лоферах на босу ногу, держит ложку-мешалку, над чем-то смеется, на ее щеке – длиннохвостая комета муки.
В голову вдруг почти ворвалась мысль, что мне не хочется играть сегодня днем, даже если для выставочной игры все-таки найдут помещение. Даже не нейтральное отношение, понял я. Я бы в целом предпочел не играть. Что бы об этом сказал Штитт – и что бы сказал Лайл. Я не смог удерживать мысль достаточно долго, чтобы представить реакцию Самого на мой отказ играть, если бы она вообще была.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу