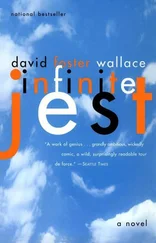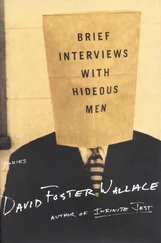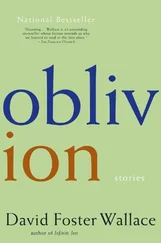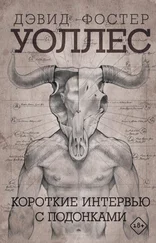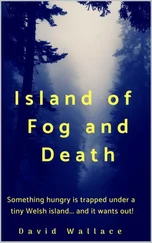Он говорит, что так это называл про себя: похерить.
Он даже до автобуса не добрался, когда отбатрачил, сказал он. У двух других земель 293из заклепочного цеха было по три ампулы на брата, которые они, типа, перед ним и выложили, ну он и подкинул свою, потому что две ампулы и с третинкой на одну херовенькую воскресную променяет только полный лошара, не знакомый с концептом «лови момент». Вкратце – опять сыграли знакомое безумие бабла на кармане и беззащитности против тяги, и мысль о его женщине, обнимающей его дочурку в вязаной шапочке и варежках под большими часами на холодном мартовском закате, не столько забылась, сколько как-то съежилась крошечной картинкой для медальона в самом центре той его части, которую он с земелями вовсю собирался прикончить трубкой.
Он говорит, на автобус так и не сел. Пустили по кругу пол-литру вискарика у старого «Форда Мистик» одного из земель, да затянулись, прямо в тачке, и как только он достал $ из кармана, все – маленький пушистый зверек уже уселся у него на шее, Джим 294.
Он крепко хватается за края кафедры и тяжело опирается на прямых руках в позе, транслирующей одновременно самоуничижение и решимость. Он просит АК просто опустить завесу милосердия над финалом ночной сцены, которую все равно в памяти после остановки для обналичивания задымило ракетными выхлопами; но, короче, домой в Маттапан он добрался только под утро, утро субботы, желто-зеленый, с больной головой и дрянным послекрэковым настроением, готовый и умереть, и убить за новую дозу, и в то же время сгорающий от стыда, что все похерил (опять), так что поездка на лифте к квартире – возможно, самый храбрый поступок в его жизни, до этого момента, казалось ему.
Было где-то 06:00 утра, и их не было. Дома никого, причем так, что пустота квартиры как будто пульсировала и дышала. Под дверь просунули конверт от БУЖХ 295, не лососевого цвета выселения, но зеленого – последнего предупреждения по квартплате. И он пошел на кухню, открыл холодильник, презирая себя за надежды, что там осталось пиво. В холодильнике стояла почти пустая банка виноградного желе и полпачки бисквитной смеси, и это – плюс вонь пустого холодильника – все, Джим. Маленькая пластмассовая баночка арахисового масла из «Фуд Банк» без лейбла, такая пустая, что на внутренних стенках – царапины от ножа, и скомканная коробка соли – больше на всей кухне ничего не нашлось.
Но от чего у него сердце ухнуло в пятки и душа заныла, сказал он, – это когда он увидел на плите пустой вылизанный бисквитный поддон и пластиковую корку защитной обертки от арахисового масла на куче мусора в помойке. Медальонная картинка на задворках разума раздулась и стала четкой сценой, как его жена, дочурка и нерожденный карапуз ели то, что, как он сейчас понял, им пришлось есть, вчера вечером и сегодня утром, пока он где-то там прожигал их еду и квартплату. Это и стало его краем пропасти, его личным перекрестком, – когда он стоял на кухне с ушедшим в пятки сердцем, поводя пальцем по блестящему поддону без единой бисквитной крошки. Он сел на кухонный кафель, крепко зажмурив свои страшные глаза, но по-прежнему видел лицо своей дочурки. Они ели дешевое арахисовое масло на бисквитах, запивали водой изпод крана и кривились.
Их квартира была на шестом этаже корпуса номер 5 в Перри Хилл. Окно не открывалось, но выбить головой вполне можно.
Но он не покончил с собой, говорит он. Просто встал и вышел. Не оставил жене записку. Ничего. Шел и шел целых четыре километра до Шаттакского приюта в Джамайка-Плейн. Ему казалось, семье без него по-любому лучше, сказал он. Но, сказал он, он не знал, чего не покончил с собой. Но вот не покончил. Ему кажется, не обошлось без Бога, когда он сидел там на полу. Просто решил пойти в Шаттак и Смириться, и протрезветь, и больше никогда не видеть в воображении с похмелья скривившееся лицо дочурки, Джеймс.
А в Шаттакском приюте – какое совпадение, – где обычно в марте немалый лист ожидания до времени, пока не потеплеет, как раз вышвырнули какого-то жалкого сукина сына за дефекацию в душе, и взяли его, спикера. Он тут же попросился на собрание АК. И сотрудник Шаттакского позвонил какому-то афроамериканцу с кучей сухих лет, и спикера отвели на его первое собрание АК. Это было 224 дня тому. Тем вечером, когда цветной Крокодил АК подвез его назад до Шаттака, – после того, как на своем первом собрании он рыдал перед другими цветными и рассказывал людям, которых раньше в глаза не видал, про большие часы и стеклянную трубку, про чек и бисквиты, и личико дочурки, после того, как он вернулся в Шаттак, и услышал звонок, и звонок был к ужину, – оказалось, что на ужин подавали – какое совпадение – на тот субботний ужин в Шаттаке подавали кофе и бутерброды с арахисовым маслом. Был конец недели, и в приюте кончилась еда с пожертвований, так что они размазывали масло по дешманскому хлебу и пили растворимый кофе «Санни Сквер» – дешманское говно, которое даже не растворяется до конца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу