Циньцинь была удивлена; неужели он до такой степени мелочный? Будь это резной нефрит, она, конечно, извинилась бы за неловкость; но так разволноваться из-за простой чашки. Ведь ее можно купить в любой лавке. И Циньцинь с обиженным видом принялась разглядывать кактусы.
— Извините, — сказал он, смущенно ероша волосы. — Я немного погорячился… Не сердитесь…
— Не буду, — примирительно сказала Циньцинь.
— Сам не пойму, как это я не сдержался. Но если бы вы знали историю этой чашки, не удивлялись бы. Сейчас я вам все объясню. Всякий человек может ошибиться. — Последние слова он произнес совсем тихо.
Значит, у этой чашки есть своя история, и Циньцинь никогда не узнала бы ее, если бы ненароком не уронила на пол. Пусть теперь Цзэн Чу сердится на нее сколько угодно, она не станет на него обижаться.
А Цзэн Чу мечтательно смотрел на кактусы, вспоминая, как он мальчишкой бегал по лесам и горам.
— Вы ведь не знаете, что я не уроженец Северо-Востока. До шестнадцати лет я рос в маленькой деревеньке на севере провинции Цзянсу. Мать умерла, когда мне еще не было трех лет. Мачеха меня терпеть не могла. За столом самые лучшие куски отдавала родным детям, заставляя их есть побыстрее, чтобы мне меньше досталось. А то возьмет да припрячет для них что-нибудь вкусненькое. Они сами мне об этом рассказывали. До чего же мне стало обидно. Я работал с утра до вечера, резал траву, кормил гусей, ходил в горы за хворостом, рубил его, таскал. До двенадцати лет у меня не было новых ботинок. Учился я прилежно. В четырнадцать лет сдал экзамен в уездную среднюю школу и переехал в школьное общежитие. В то время тем, кто успешно сдал экзамен, полагалась стипендия, и я из стипендии платил за обучение. В каникулы и зимой и летом подрабатывал: бурлачил, толкал шестом лодки, нанимался грузчиком, дробил камень. Не гнушался никакой работой! Учителя хорошо ко мне относились, на еду мне хватало стипендии. Пожалуй, я утомил вас своими рассказами? Однажды, это было первого мая, все разъехались по домам, только мне некуда было деваться. Одному из товарищей я отдал последние семь мао, у него не хватало денег на билет. К тому же будто нарочно у меня украли талоны на продовольствие. В общем, я остался и без еды, и без денег, а занять было не у кого, да я и не хотел. Сидел в классе один, голодный, вдруг — о, радость! — из тетради выпала бумажка в пять фэней. Я тотчас же побежал в лавку, купил два ляна пареного риса и стал на ходу его есть. Потом вспомнил, что в лавке стоит бадья с отваром от соленых овощей, за который денег не берут, и вернулся. Но бадью не увидел. Спрашиваю у служанки: «Где бадья с отваром?» А она рукой на задний двор показывает. Пошел я туда, но в бадье увидел не отвар, а помои. И так мне стало обидно. Сироте всегда бывает обиднее, чем другим. Потом жизнь меня научила сносить унижения, а тогда я, хоть и был голоден, подошел к моей обидчице, вывалил на стол рис и вышел с гордо поднятой головой. Вышел и тут же упал в обморок от голода. Очнулся — лежу на обочине дороги, и какой-то старик кормит меня из чашки супом с ушками хуньдунь. Ногти у старика длинные, тело прикрыто лохмотьями. Оказалось потом, что он нищий, его выгнала из дому невестка. Ел я этот суп, а у самого по щекам текли слезы и капали в чашку. Порция одна стоит один мао. Поклонился я старику в ноги, сунул чашку за пазуху и убежал. С того дня я с этой чашкой не расстаюсь. Бывают люди хорошие, бывают плохие. Так и жизнь. Раньше мы думали, что она неизменно прекрасна. Потом впали в отчаяние, встретившись с несправедливостью. С тех пор как существует человечество, не прекращается борьба добра и зла. Того старика я никогда не забуду: он научил меня понимать жизнь…
«Оказывается, и простая чашка может быть полна глубокого смысла. А будь на месте Цзэн Чу другой? Весь мир показался бы ему бадьей с помоями. Пять фэней за чашку пареного риса, надо же! Таких дней я не знала, значит, могу считать себя счастливой. Впрочем, нет, он счастливее. Ведь он мог совсем опуститься. Пойти по дурной дорожке… Как жил он потом? Почему он смотрит в сторону? Боится, что наскучил? Я готова слушать его хоть до утра…»
— А что потом? — взволнованно спросила Циньцинь. У нее было такое чувство, будто она была вместе с ним в далекой и бедной северной Цзянсу.
— Ничего, ничего интересного.
Цзэн Чу, видимо, не хотел рассказывать все до конца.
— Как ты попал на Северо-Восток?
— Очень просто. Учился во втором классе средней школы, когда обо мне узнал дядя, брат моей матери, и забрал к себе. После окончания вуза его распределили на Северо-Восток, куда он приехал с семьей и служил техником. Он научил меня бегать на коньках, покупал книги. Два года, проведенных в его семье, были самыми счастливыми в моей жизни. А потом началась «великая культурная революция». Меня услали в деревню, а через год дядин завод перевели из Харбина в глубь страны. Я проработал в госхозе несколько лет. Рабочим или крестьянином я не был и потому не мог поступить в институт. В город вернуться я тоже не мог до тысяча девятьсот семьдесят шестого года. Собрался было изучать систему административно-хозяйственного управления госхозом, но заведующий отделением всячески мне препятствовал. Он даже подыскал для меня работу в городе, только бы я уехал! Была у меня тогда подруга, так и она уговаривала меня переводиться в город. Вот и вся моя жизнь. Ее за три минуты рассказать можно.
Читать дальше
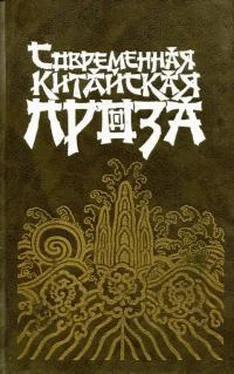





![Мо Янь - Папапа. Современная китайская проза [антология]](/books/405305/mo-yan-papapa-sovremennaya-kitajskaya-proza-antolo-thumb.webp)





