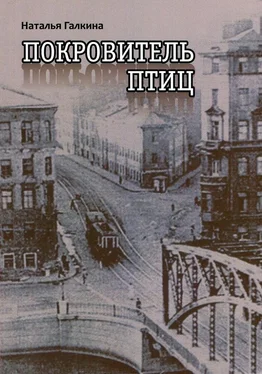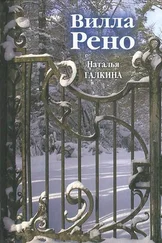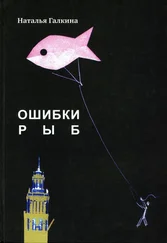Некоторое время они шли молча, потом Гор сказал:
— Обратные народы можно было бы называть народами встречными. Они должны отличаться от нас. Например, особым зрением. Особым запредельным звуком. У них иная музыка. Они слышат за музыкой возникающие особые ноты-волны. Видят их, изображают. Увидев на одной из картин Панкова голубые волны, я спросил его — что это? — песня, — отвечал он.
— Живут, ничего не видят, ничего не слышат, — медленно сказал индеец. — Легкие, легче золы. Я таких видел.
— У нивхов есть пословица, — сказал Гор, — «Увидишь двуногих, похожих на нас, не будь уверен, что это люди». Но она о другом.
— Встречные народы? — задумчиво произнес Клюзнер. — Есть выражение «первый встречный». Встречается в сказках русских и зарубежных. Из всеобщей мифологии.
— Кажется, слово «грядущее», — сказал индеец, — обозначает будущее?
— Да! — воскликнул Гор. — Грядущее! Идущее нам навстречу!
Будущее было одной из его любимых тем; это роднило его с большинством фантастов.
— Интересно, — сказал Клюзнер, — что «настоящее» — это настоящее, натуральное, реальное. А по-английски «настоящее» — «present» — презент, подарок.
Гор споткнулся. Он ходил в обуви, напоминавшей детские пионерские сандалии, не всегда удобной для лесных тропинок и сельских дорог. Споткнувшись, он переменил тему.
— Ведь мы не знаем, — поведал он спутникам своим, — какова истинная цель искусства. Есть мнение, что люди искусства творят, подражая Творцу. Некоторые считают, что это вид игры, одной из самых прекрасных и длительных игр человечества. По одной из версий, искусство — вид защиты от пугающих сил Космоса, Вселенной, подвесной потолок между нами и инобытием, в том числе инопланетными цивилизациями, грозными и даже опасными, ну, и так далее. Но я склоняюсь к той точке зрения, согласно которой искусство и есть та сила, та работа, та эманация, которая и обеспечивает человеку, человечеству как таковому будущее. Настоящее искусство высокое, подлинное, полное божественной энергии имею я в виду.
— О! — вскричал Клюзнер. — Стало быть, недаром халтурщики кажутся мне не невинными овечками, а врагами рода человеческого.
Они подходили к дому Гора, у калитки ждал приехавший из города гость (гости постоянно наезжали к писателю, по одному, парами, целыми компаниями, вели беседы, пили чай, завтракали, ужинали), кинорежиссер Илья А., высокий, худой, одетый в странный оку советских людей небесного индиго джинсовый костюм, обутый в сабо, или кломпы, — деревянные башмаки — на босу ногу.
Три наших собеседника продвигались к калитке сквозь марево непривычной для северян жары; индеец по случаю ожидавшегося знакомства с писателем-фантастом надел свой великолепный пернатый головной убор, Клюзнер обмотал голову не понадобившимся на недосягаемом озере полотенцем, чалма ему шла, Гору сделали шлем-лодочку из газеты.
Илья А. сказал, улыбаясь:
— Грядете, аки волхвы новозаветные. Мельхиор, Каспар, Бальтазар.
— Грядущие, — промолвил индеец.
— Чур, я — Каспар, — сказал Клюзнер.
— Я недавно прочел роман про Каспара Хаузера, — сообщил кинорежиссер.
Ему, как и всем горовским гостям, нравилось чем-нибудь блеснуть перед Гором.
Клюзнер, по обыкновению, проводил индейца на станцию.
— Стало быть, историки, писатели и художники, чьи творения связаны с прошлым, создают будущее для обратных народов, — с этими словами индеец сел в последний вагон и помахал рукой.
— Хороший у тебя дом, — сказал индеец.
— Приятно слышать от понимающего человека, — отвечал Клюзнер. — Кто же не знает что лучшие дома мира — вигвам, чум, юрта. Еще иглу у эскимосов.
— Я видел финские дома, где такой же острый скат крыши, как в твоем доме.
— Чтобы снег скатывался зимой.
— Но те дома вообще состояли из ската, подобно шалашам. Не знаю, был ли у них второй этаж с маленькой комнатой. Или только чердак, где лежат вещи, сушатся травы. А чердачный воздух не дает холоду и зною одолеть человека. Ты тут живешь один, нужен ли тебе второй этаж? Поместился бы и на первом.
— Конечно, — отвечал Клюзнер. — Но тогда в доме не было бы лестницы. А я люблю лестницы.
Лестницы казались ему едва ли не главной деталью дома. Студентом первого курса, мечтавшим об архитектуре, застывшей музыке, до курса третьего, пока натуральная музыка не увела его в свои просторы, он постоянно рисовал лестницы, — срисовывал, проектировал. Он любил строения, состоявшие из лестниц: маяки, крепостные и сторожевые башни, пожарные вышки. Его очаровывали потерны, полупотайные крутые узкие ступени в толщине стен фортов и дач времен модерна, забежные повороты, средневековую пару — вверх, на башню, вниз, в темницу; барочные извивы перил. Если бы пришло ему на ум читать святоотеческую литературу, он начал бы с Лествичника. В псалтыри он всегда перечитывал песни степеней, то есть ступеней. Ему нравилось название «La Scala», означавшее «лестница». Ему снились лестницы, сны повторялись, главных было три: с лестницами-эшерами, прижатыми к стенам куба некоей башни, бывшей центром замка либо тюрьмы (одна только для подъема, другая только для спуска, переплетены так, что не угадать, не единожды, подымаясь, попадаешь на спуск, чтобы снизу начать подъем сызнова, вслепую); с лестницей-ни-шагу-назад, чьи ледяные или стеклянные ступени проламывались под ногами, ускоряли подъем, беги вперед, спуск невозможен, невозвратное движение вверх, — и козьи тропы, неровные плоскости, поросшие травой, на склоне горы или холма, манящие ввысь: идущий видит только небо, не знает, что там, за горою, за вершиной холма.
Читать дальше