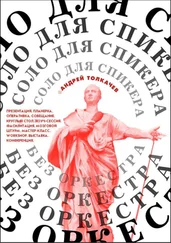Когда последние оладьи были сняты со сковороды, он запевал: «Чехи мои, чехи, гордый мой народ, душа рвется из груди, наши горы высоки, обручи-и-ились с небом!»
Папа был рослый и сильный, но не любил скучной работы — таскать уголь, мыть полы и окна, передвигать мебель… Передвигать мебель он просто терпеть не мог. Все это делала мама, а он для нее пел.
Когда я принесла по пению четверку, самолюбие папы было задето. Ну какой чех не любит музыку?!
Поэтому я каждый день должна была петь: «Возле Фридека дорожка» и «Где родина моя?» [9] Первая часть государственного гимна Чехословакии.
— Доро-о-ожка! — кричал папа. — «Дорожка» вверх, а не вниз!
Откуда мне было знать, думала я, что возле Фридека дорожка вверх, если я там никогда не бывала?
— Тот, кто при исполнении гимна не стоит прямо и не может с выражением его пропеть, не любит своей родины, — повторял папа.
Любить родину я хотела — если для него это так важно. Но, когда у мамы влажнели глаза, а отец принимал бравый вид, еле удерживалась от смеха. И, услышав собственный голос, выводящий надрывные ноты, хохотала во все горло.
А еще мне хотелось смеяться, когда папа разучивал роли для любительских спектаклей. Мама произносила текст за папиных партнеров. Произносила старательно, но папа кричал:
— С тобой только в театре играть!
Актрисы ему нравились. Но он, не таясь, восхищался и некоторыми дамами вне театра.
На нашей улице жила молоденькая мадам Блюменрейхова. Носила белые блузки со сборчатыми обшлажками, юбку в цветочках и зеленый передничек. Но по-чешски говорила. Даже научила меня скороговорке: «Сшит колпак не по-колпаковски, надо его переколпаковать».
Она всегда улыбалась, когда, гуляя в своей разлетающейся пелеринке, встречала моего отца, и он говорил маме, как ему жаль, что мадам Блюменрейхова не из его района.
Мадемуазель Штейнова была из его района. Она давала уроки музыки. Папа всегда ждал, пока смолкнут звуки рояля, и уж тогда звонил. Мадемуазель Штейнова всплескивала руками:
— Столько писем! Вы меня балуете! Заходите, пожалуйста!
А однажды сварила для папы кофе и подала в маленькой чашке с розочкой. Перед тем, как откланяться, папа пропел:
— Sah ein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön… [10] Песня на стихи Гейне о мальчике, увидевшем на лужайке розочку.
Но тут в дверь позвонил ученик. Набравшись смелости, папа пожаловался мадемуазель Штейновой, что дочка его не умеет петь.
— Дочь такого любителя пения не поет? — удивилась та.
Он объяснил, что у жены его нет слуха. Но мадемуазель его успокоила и посоветовала, как поступить.
Дома он рассказал обо всем маме. Передал, что, по мнению мадемуазель Штейновой, музыкальный слух можно развить. Затем позвал меня и велел покричать кукушкой. Сначала закуковал сам. Звучно и весело, словно пророчил себе сто лет жизни.
— Теперь ты.
Я начала куковать.
— Попробуй еще раз, — сказал он.
Я начала снова.
— Ничего не поделаешь, — укоризненно посмотрел он на маму.
Мадемуазель Штейнова объяснила ему, что, если я смогу прокуковать, она попробует со мной заняться. А если нет, тогда уж не имеет смысла.
— Ну так она не будет куковать, — сказала мама.
Я пошла в рощицу за либеньский костел и долго там куковала. Совсем как папа.
Потом папа рассказывал маме, как встретил мадемуазель Штейнову на улице. На ней было черное пальто, а под мышкой черный конверт — чтобы не было видно звезды. Папа шел возле нее до самого дома, и она будто бы спросила:
— А как девочка?
Он ей сказал, что с кукованием ничего не вышло. А она сказала, что теперь это не имеет значения — я все равно ведь не могла бы к ней ходить. Папа хотел ее утешить, но она тряхнула головой и весело заметила, что хорошо бы завести другое пальто. А то на черном желтая нашлепка очень выделяется.
Папе, конечно, пришло в голову, как было бы прекрасно, если бы он мог купить ей желтое пальто, чтобы она сияла уже вся.
Однажды папа рассказал, как мадемуазель Штейнова его испугалась — подумала, что он несет какую-то повестку от немцев. Она сказала, что брат ее, Павел Штейн (его мой папа тоже знал — вручал и ему разную корреспонденцию), хотел перед войной уехать в Америку, но застрял тут из-за своих торговых дел, а теперь жалеет.
Наш папа убеждал мадемуазель Штейнову, что все это болтовня, пустые слухи — немцы ни до чего такого никогда бы не дошли, это старый, культурный народ.
Потом папа принес домой большой эмалированный таз. Его дал папе господин Штейн — брат мадемуазель Штейновой — за то, что папа хорошо относился к его сестре.
Читать дальше
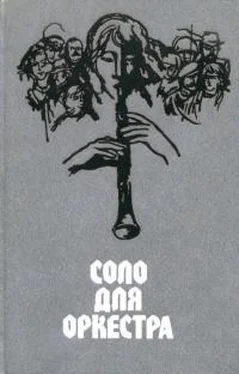
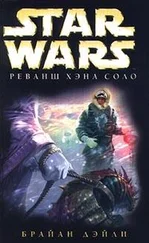
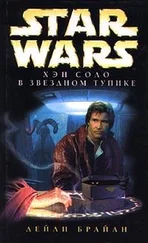



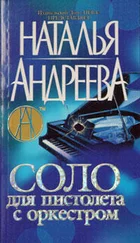
![Дмитрий Селиванов - Соло для попаданца с оркестром [CИ]](/books/404557/dmitrij-selivanov-solo-dlya-popadanca-s-orkestrom-thumb.webp)