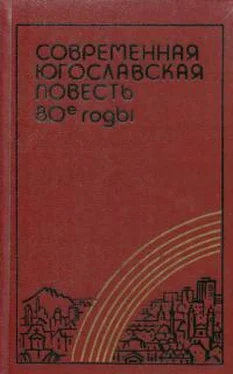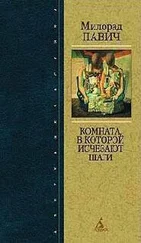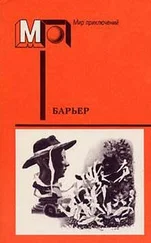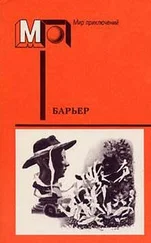Нет пощады, заключил Шерафуддин. Сегодня ему в грудь будто залетела птица, распростерла свои крыла, и клюет изнутри, и распирает.
— А где же твоя племянница? — не отрываясь от доски, с ехидством спросил приятель-шахматист, когда он подошел.
Шерафуддин мог бы найти ответ, и язвительный: это не племянница, а прислуга, что делать, он не может жить один, но у него не было сил, не нашлось сарказма, преобладало какое-то иное чувство, от которого, казалось, ему никогда не избавиться. Пришлось промолчать, шахматистам впервые сошло их злословие, и они удивленно подняли головы, переглянулись и уставились на него: что это с ним, не заболел ли?
Ему было неспокойно, и, не внимая их просьбам, он вскоре ушел.
— Разве не видишь, с ним что-то происходит? — спросил друга бывший социолог, когда Шерафуддин удалился.
— Не вижу, а что? — слукавил тот.
— Мне кажется, он попался на крючок.
— Бог с тобой, ведь это больно.
— Больно, конечно, вот он и мечется, дергает изо всех сил, затягивает, то выныривает на поверхность, то уходит под воду, не знает, куда деваться.
— Если не вырвется, его утащит на дно… Просто не верится, что это Шерафуддин.
— Помнишь его присказку: «Кто сказал «старик»? Милиция!» Здесь и милиция не поможет.
Снег завалил его дом, его самого, все вокруг. Он был сокрушен. Только теперь понял — ушла мечта, смысл которой он определить не сумел. Чебо звал ее «Золотой пармен». За что? За лицо? За волосы? За улыбку? За все вместе.
Так отстать от времени! Надо признать, он оказался не на высоте. Может, все решала минута, настроение? Зинка ворвалась в его жизнь, как комета, а она лишь раз в семьдесят лет встречается с Землей, теперь жди еще семьдесят, человеческая жизнь столько не длится, между ними двадцать тысяч миль, и он не только больше никогда ее не увидит, он должен осознать, что ее никогда не было, был сон, мираж, видение.
Великий Ньютон… Ван Гог… Луи Армстронг… А кем они были для аристократии или нуворишей? Одаренные люди, а им бросали объедки со стола, чтобы не умерли с голоду, как ремесленники, способные украсить дом или учить детей. Им можно заказать кованую ограду, кованые ворота с узором и позолотой, их можно нанять для развлечения, как нанимают музыкантов для бала. Ни один из них не допустил бы, чтобы его дочь вышла замуж за Ван Гога, сделавшего бы дом сокровищницей, или за Бетховена, подобного которому не родится еще двести лет, на чьи концерты она рвалась, восторженная, взволнованная, правда не столько ради Бетховена, сколько ради какого-нибудь оболтуса или офицера-недоумка, затянутого в сверкающую форму с аксельбантами на плечах…
С дерева словно нехотя, медленно падал лист, стремился к земле, чтобы уйти в нее, так же как человек. На траве играли дети, по дорожкам прогуливались пенсионеры, ноябрьское солнце было не менее приятно, чем майское, кроны деревьев свежи и пушисты. Но внезапная перемена — и всему конец. Ледяные дожди и снег обрушиваются на деревья, словно божья кара, листва безжалостно сорвана, еще недавно густые леса выставили сухие, обнаженные ветки, деревья раздеты донага, растерзаны, ограблены, и не осталось тайн ни в зарослях ежевики, ни в папоротниках, замолкли птицы — голодный да без дров в доме не запоет. Поникла вынужденная зимовать трава, чернеют вспаханные поля…
И если за городом нежданный снег обожжет все, учинив полный разгром, в городе человек не перестанет выполнять свои обязанности, с семи до двух, как и в середине лета, людской муравейник будет двигаться по тротуарам и в машинах, автобусах, в трамваях на работу, с работы, на отдых, с отдыха… Но ведь людской муравейник не перестанет испускать вонь, копоть, дым, шлаки всех видов, задыхаться в собственном смраде, потому-то природа может сказать: да, человек победил меня, зато себя ему не победить, околеет он в своих собственных извержениях, от собственной безмозглости… Я-то весной воспряну, а дождется ли он новой весны, вот вопрос. Ведь все, что он совершил и совершает, — бессмыслица, он погибнет, выполняя главное дело своей жизни. Существование человека на Земле вообще бессмысленно. Может, это судьба всех цивилизаций с самого начала? Что осталось от прошлого? Кладбища?
В таком городе, при таком настроении и таких ассоциациях какие сны могут сниться? Вот такие.
Все звери и их жертвы находились на своих местах: в конторах, у станков, на улицах, на полях, на лугах… Иные вросли в землю, как деревья, выстроились правильными рядами, шеренгами, вдоль проезжих дорог. Разверстые легкие наверху, в них теряется голова, а может, ее нет вовсе, как нет на деревьях листьев, только черные, обугленные ветки. Те, что носятся по улицам в своих повозках, тоже стараются поглубже вдохнуть, хоть ранним утром…
Читать дальше