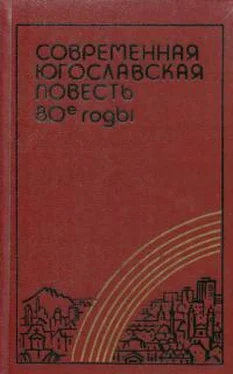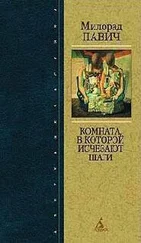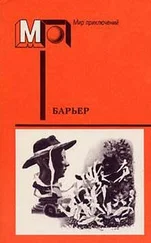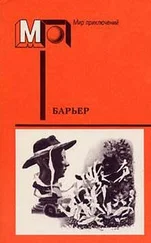С Попугайчиком теперь дружба врозь, это было ясно, и тут, как нарочно, случай свел меня с Янезом Водником.
Через неделю ночью выпал снег, ударил мороз. И, как каждое утро, когда нужно было, взяв портфель, выходить из дома, я вырвал из тетрадки чистый листок и свернул из него великолепную «сигарету». Затем, с портфелем под мышкой и с «сигаретой» в зубах, направился к трамвайной остановке на Шмартинской улице. В то утро я особенно важничал, изображая взрослого человека: пар, который я выдыхал на морозе, казался облаком настоящего дыма. Для пущей значительности я «стряхивал пепел», заглатывал чертовски холодный воздух поглубже в легкие, задерживал там, так что он порядком нагревался, а потом выпускал то через рот, то через нос.
На Товарнишкой улице мне встретился Янез. Он первым увидел меня и, разгадав мои маневры, добродушно заулыбался; я не стал бросать «сигарету» из страха показаться еще более смешным. Янез вынул из кармана портсигар.
— Бери, — сказал он, — закури хоть одну настоящую. Ведь ты уже почти мужик.
Деваться было некуда, я смущенно оборонялся и, хотя у меня и в мыслях не было идти в школу, ответил:
— С большой радостью, но боюсь, в школе унюхают.
— Давай закури, — подбадривал Янез. — А в школе первым делом отправляйся в туалет и пополощи рот. И святой не учует.
Я сунул руку в портсигар, Янез чиркнул спичкой, огонек затрепетал у меня под носом. Я затянулся, сигарета раскурилась, рот наполнил густой кисловатый и резкий дым, он обжег холодное небо. В секунду я опьянел не столько от дыма, продравшегося изо рта в носоглотку и ударившего в голову, сколько от напряжения, которое я испытывал всегда, когда пробовал что-то для себя новое. Янез внимательно следил за выражением моего лица. Я поперхнулся и закашлялся, отплевываясь. Янез перевел взгляд на мои ноги и спросил:
— Почему ты не зайдешь к нам за зимними ботинками? Отец их давно уже починил.
— Откуда я знаю, — пожал я плечами. — Мать пока не велела за ними идти. Наверное, нет денег.
— Господи, в этих башмаках нельзя ходить по снегу, — продолжал он. — Ты приходи, а я постараюсь уговорить старика, чтобы он их тебе отдал.
— Хорошо, — сказал я. — Может быть, я зайду вечером.
— А в школе сделай так, как я тебе сказал. Первым делом пополощи рот в туалете.
На том мы и расстались: я и гордился, и боялся отравиться сигаретой, хотя тут же сделал еще одну затяжку. Янез был доволен, что ввел меня в курс дела и тем оказал мне услугу. Не успел я сделать десяти-пятнадцати шагов, чтоб с заваленной снегом мостовой перебраться на расчищенный тротуар, как позади раздался выстрел, потом еще один, и в чистом утреннем воздухе запахло порохом. Я обернулся и увидел Янеза, стоящего на том же месте, в снегу, посреди дороги, он замер, как будто пробитый пулей, одеревеневшая рука тянулась ко рту.
— Ты, Франт!.. — изумленно воскликнул он.
Потом повернулся вокруг своей оси, плюхнулся на спину и затих.
В нескольких шагах от него на подметенном тротуаре с другой стороны улицы стоял Франц Безлай — на одной ноге, другой он поддерживал велосипед, а в руке сжимал пистолет.
— Я, да! — крикнул он Янезу. — Будешь знать, предательская сволочь!
Убедившись, что Янез не шевелится, Франц опустил пистолет в глубокий внутренний карман своего кожаного пальто, сел на велосипед и завертел педали…
Некоторое время я стоял как вкопанный, пальцы инстинктивно сжались в кулак, сигарета обжигала руку. Когда я наконец решился подойти, вокруг Янеза уже собралась толпа: сбежались люди с соседних улиц и из ближайших домов, они примяли снег, но никто не смел приблизиться к телу. Янез лежал на чистом белом снегу и сам как будто побелел, из уголка искривившегося рта тянулись две струйки крови, они застыли на морозе, не успев сбежать по подбородку и утонуть в снегу, глаза были большие, широко открытые, удивленные.
Вскоре на дороге показалась бронемашина с вооруженными итальянскими солдатами, и люди в испуге разбежались. Я тоже помчался домой. И тут, в подвале, за закрытыми дверями меня охватил неописуемый ужас. Отец, как обычно, отсутствовал, мать ушла на работу, в это время дня у нее уже глаза слезились от лука в кухне гостиницы Штрукля, брат помогал строителям в Шемпетерской казарме… В квартире было пусто и тихо, как в склепе. Но самое страшное — на стенах не осталось ни одной церковной гравюры, ни ангела-хранителя с распахнутыми крыльями и руками, распростертыми над двумя несчастными отроками у речного омута, который когда-то висел над моей кроватью, ни непорочного Сердца Иисуса, Иисуса Христа с разверстой грудью, излучающей милость божию, — эта картина украшала некогда комнату. Считая все это идолопоклонством, мать недавно тайком вынесла гравюры из дома. Я нашел среди хлама на ночном столике только забытую, запыленную фигурку Божьей матери. Я упал перед ней на колени и молился, молился; молился так исступленно и самозабвенно, что не замечал ни дрожи, сотрясавшей мое тело, ни клацанья непослушных челюстей, когда я безуспешно пытался выговорить слова молитвы. Я молился, просил… Я просил Марию-заступницу, единственную милосердную душу в этом огромном мире, чтобы она обратилась к доброму Богу, пусть он не посылает Янеза, даже если тот доносчик и предатель, прямо в ад, а отправит его в чистилище и там наложит на него самое строгое покаяние, только бы Янез не лежал в холодном снегу безнадежно, невозвратимо мертвый. Я так же горячо просил и за Франца, он же Том Микс, он же Кэн Мейнард, который так неожиданно, как бы сойдя с экрана, оказался в занесенной снегом Зеленой Яме; за этого несчастного героя, который не помнил себя, когда стрелял, и теперь сожалеет об этом, просил, чтобы Бог помог ему скрыться от итальянских броневиков и пуль, дал ему верного коня или крылья, только бы он остался в живых. Лишь одна моя просьба была услышана: Франц убежал.
Читать дальше