Мой компьютер — настоящий друг, в ночи его экран мерцает голубоватым светом; надо бы сменить на нем обои — картину Пауля Клее, вывешенную так давно, что она уже практически не видна под иконками рабочего стола, накапливающимися, словно виртуальные бумаги. У нас есть свои ритуалы: сначала открыть почту, удалить нежелательные письма, рекламу, новостные сообщения, чтобы от пятнадцати новых сообщений не осталось ни одного, одни отбросы, субстрат постоянной лавины дерьма, производимого современным миром. Я надеялся получить мейл от Сары. Что ж, придется брать инициативу в свои руки. Создать. Кому: Саре. Тема: из Вены. Любимая, сегодня утром — нет, вчера утром — ап! твое тире пишется отдельно, я не знал, что его все еще надо указывать… Большое спасибо, но какой ужас это трупное вино! Оно меня сразу встревожило. У тебя все в порядке? Что ты делаешь в Сараваке? Здесь все по-прежнему. В центре университета открыли рождественскую ярмарку. Противные запахи горячего вина и сосисок. Как скоро ты приедешь в Европу? Напиши, что у тебя нового. Крепко тебя целую. Не подумав, отправил в 4 часа 39 минут. Надеюсь, она этого не заметит, слишком пафосно отправлять почту в 4 часа 39 минут утра. Она знает, что я обычно ложусь рано. Возможно, она решит, что я вернулся после вечеринки. Я мог бы кликнуть мышью ее имя, и передо мной разом появились бы все ее письма, рассортированные в хронологическом порядке. Но это слишком грустно. У меня есть еще папка «Тегеран», я ничего не выбрасываю. Из меня вышел бы отличный архивариус. Вот дурак, зачем я написал ей про горячее вино и сосиски! Письмо слишком непринужденное, чтобы быть честным. Но письма, брошенного в Великий Загадочный поток электронов, уже не вернешь. Очень жаль. О, а я и забыл про этот текст, написанный после возвращения из Тегерана. Но помню его зловещее содержание. Перед глазами вновь предстает Жильбер де Морган, сидящий в саду своей виллы в элитном районе Зафарание. Эта странная исповедь прозвучала за несколько недель до того, как Сара спешно покинула Иран. Ничего случайного, как сказала бы она. Почему я непременно решил написать рассказ о том полуденном времени? Чтобы избавиться от липкого воспоминания, чтобы еще и еще обсуждать его с Сарой, чтобы приукрасить его всеми своими знаниями об иранской революции — или ради такого редкого удовольствия, как писать по-французски?
«Не в моих привычках говорить о любви, а тем более о себе, но, раз вы интересуетесь научными сотрудниками, работавшими на Востоке, теми, кто полностью растворился в своих исследованиях, мне надо рассказать вам одну совершенно особенную и во многих смыслах ужасную историю, касающуюся меня очень близко. Вы, конечно, помните, что я работал здесь, в Тегеране, с 1977 по 1981 год. Я стал свидетелем революции и начала ирано-иракской войны, ибо оставался до тех пор, пока отношения между Францией и Ираном не стали настолько напряженными, что нас эвакуировали, а Французский исследовательский институт в Тегеране законсервировали до лучших времен».
Жильбер де Морган говорил так, словно чего-то стеснялся; к вечеру жара стала удушающей; земля под ногами превратилась в раскаленную плиту, отдававшую жар, накопленный на протяжении дня. Загазованный воздух окутал розоватой пеленой алевшие в лучах заходящего солнца вершины гор; даже плотная листва, увивавшая шпалеру над нашими головами, казалось, изобличала летнюю засуху. Домработница Насим Ханум принесла нам прохладительное — вкуснейшую воду с бергамотом и кусочками льда, которую Морган дополнял армянской водкой, наливая ее в высокие стаканы, — уровень алкоголя в симпатичном графине регулярно понижался, и Сара, не раз становившаяся свидетельницей вредных наклонностей своего шефа, взирала на него, как мне казалось, с легким беспокойством — но, возможно, она всего лишь не слишком внимательно его слушала. В свете заходящего солнца волосы Сары напоминали пожар. Насим Ханум постоянно подносила нам сласти, выпечку и леденцы с шафраном, и, в окружении роз и петуний, мы забывали про уличный шум, клаксоны и даже дизельные выхлопы автобусов, проносившихся, подобно смерчу, по ту сторону стены, ограждавшей сад, отчего земля содрогалась, а в стаканах дребезжал лед. Жильбер де Морган продолжал рассказывать, не обращая внимания ни на передвижения Насим Ханум, ни на шум, доносившийся с проспекта Вали-Аср; на его рубашке, под мышками и на груди, расплывались темные пятна пота.
«Мне надо рассказать вам историю некоего Фредерика Лиоте, — продолжал он, — молодого человека родом из Лиона, начинающего исследователя, специализировавшегося на персидской классической поэзии, обучавшегося в Университете Тегерана как раз в то время, когда там начались первые выступления против шаха. Несмотря на наши предостережения, он принимал участие во всех демонстрациях; он увлекался политикой, сочинениями Али Шариати, его интересовала судьба духовных лидеров в изгнании и разного толка активистов. Осенью 1977 года, во время демонстраций, начавшихся после того, как в Лондоне умер Шариати (в то время мы были уверены, что его убили), Лиоте в первый раз арестовала САВАК [560] САВАК — Министерство государственной безопасности Ирана времен правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.
, тайная полиция, но когда поняли, что он француз, его немедленно отпустили; освободили, но все же, по его словам, слегка побили, хотя мы все пришли в ужас: он явился в институт весь в синяках, с заплывшими глазами, а, главное, еще ужасней, на правой руке у него не хватало двух ногтей. Однако он, казалось, не придал особого значения этому испытанию; он лишь посмеивался, но его показной героизм нас отнюдь не ободрял, а, наоборот, очень беспокоил: даже самых закаленных потрясли насилие и пытки, примененные к Лиоте, но тот лишь задирал нос и переполнялся таким невероятным чувством превосходства, что мы заподозрили, что мучители подвергли испытанию не только его тело, но и разум. Он возмущался реакцией французского посольства, где, по его словам, ему заявили, что этот арест должен его образумить, ибо ему не следует участвовать в демонстрациях, которые его не касаются, и об этом надо помнить. Лиоте, с забинтованной кистью и рукой на перевязи, несколько дней подряд осаждал кабинет посла Рауля Делэ с целью разъяснить ему свой образ мыслей, пока наконец ему не удалось подойти к послу на приеме, где присутствовали мы все: археологи, научные работники, дипломаты; и все мы увидели, как Лиоте, в грязных бинтах, с длинными жирными волосами, утопая в широких, не по размеру, джинсах, наскакивал на учтивого Делэ, совершенно не понимавшего, кто перед ним, — в оправдание посла надо сказать, что по сравнению с днем сегодняшним французских научных работников и студентов в то время в Тегеране было гораздо больше. Я прекрасно помню, как Лиоте, весь красный, брызжа слюной, выплескивал злобу и революционные лозунги в лицо Делэ до тех пор, пока два жандарма не бросились на него, когда он, размахивая руками как одержимый и повысив голос до крика, принялся читать стихи на персидском, стихи неистовые, мне неизвестные. Ошеломленные, мы смотрели, как в углу сада, примыкавшего к посольству, Лиоте убеждал жандармов в своей принадлежности к иранистам и Французскому исследовательскому институту в Тегеране, чтобы те наконец отпустили его, а не передали иранской полиции.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
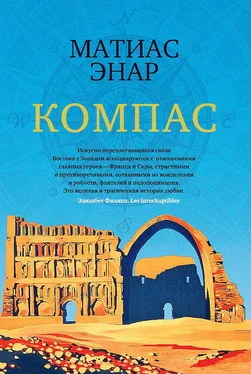
![Наталья Девятко - Карта и компас [litres]](/books/55718/natalya-devyatko-karta-i-kompas-litres-thumb.webp)






![Матиас Лаворель - Fortnite. Королевская битва. Большая игра [litres]](/books/391629/matias-lavorel-fortnite-korolevskaya-bitva-bolsh-thumb.webp)

![Матиас Хирш - «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела]](/books/433440/matias-hirsh-eto-moe-telo-i-ya-mogu-delat-s-nim-ch-thumb.webp)

