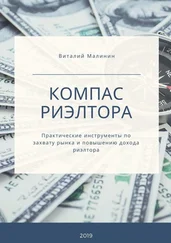И все же Иран философов и мистиков никуда не делся и, подобно подземной реке, продолжал струиться под ногами у равнодушных мулл; носители эрфана , [513] Эрфан. — Так в Иране называют теоретический суфизм, по типу более близкий к гносису.
духовного знания, продолжали традицию издателей и комментаторов. Великие персидские поэты напоминали об идущей от сердца молитве, возможно неслышной в городском шуме Тегерана, однако глухой стук сердца являлся одним из постоянных ритмов города и страны. Вращаясь в обществе интеллектуалов и музыкантов, мы практически забывали о черной личине режима, черной траурной ткани, окутавшей все, до чего режим смог дотянуться, почти избавились от захир — видимости, чтобы приблизиться к батин — к нутру, к потаенному, к силам зари. [514] Захир — батин — явленное — сокрытое, важные понятия мусульманской метафизики.
Почти — потому что Тегеран умел заставать вас врасплох, надрывать вам душу и погружать в бездумную тоску, где нет ни восторга, ни музыки, — например, безумный неогобинист из музея Абгине с его гитлеровскими приветствием и усами или мулла, повстречавшийся мне в университете, преподаватель неизвестно чего, обвинивший нас в том, что у нас, христиан, три бога, что мы проповедуем человеческие жертвоприношения и пьем кровь, — следовательно, мы не просто неверующие, а stricto sensu [515] В прямом смысле (лат.) .
кровожадные язычники. Если хорошенько подумать, меня в первый раз назвали христианином : впервые бесспорность моего крещения использовал другой, чтобы указать на меня и (в данных обстоятельствах) выразить мне свое презрение, точно так же как в музее Абгине, где меня впервые назвали немцем, чтобы зачислить в ряды сторонников Гитлера. Подобное насильственное приклеивание ярлыков, звучавших как приговор, Сара воспринимала гораздо острее, чем я. Фамилия, которую она могла бы носить, в Иране приходилось хранить в тайне: даже если Исламская республика официально покровительствовала иранским евреям, маленькая община, существовавшая в Тегеране уже четыре тысячелетия, постоянно становилась жертвой притеснений и придирок; последних немногочисленных представителей иудаизма, оставшихся со времен Ахеменидов [516] Ахемениды — династия царей Древней Персии (705?–330 до н. э.).
, то и дело подвергали арестам, пыткам и казням через повешение после громких процессов, больше напоминавших средневековые суды над колдунами, нежели современное правосудие, где их обвиняли — среди тысяч других причудливых статей обвинения — в подделке лекарств и попытке отравить мусульман Ирана от имени, разумеется, Государства Израиль, одно только упоминание которого в Тегеране ассоциировалось с чудовищами и волками из детских сказок. И даже если Сара на самом деле не была ни еврейкой, ни католичкой, следовало соблюдать осторожность (принимая во внимание ту легкость, с какой полиция вербовала шпионов) и скрывать те немногие связи, которые она могла поддерживать с сионистским обществом, которое официальные лица Ирана, судя по их речам, страстно желали истребить.
Странно, почему сегодня в Европе так легко приклеивают ярлык «мусульманин» на всех, кто носит фамилию арабского или тюркского происхождения. Диктат навязанных идентичностей.
О, вторая экспозиция темы. Надо слушать затаив дыхание. Все стирается. Все проходит. Мы вступаем на неизведанную почву. Все бежит. Надо признать, ваши страницы, посвященные Тридцать второй сонате Бетховена, способны вызвать ревность музыковедов, дорогой Томас Манн. Заика-лектор Кречмар играет на фортепиано и, заикаясь и превозмогая собственные fortissimi , изо всех сил выкрикивает свои комментарии. Ах, что за персонаж. Заика, рассуждающий о глухом. Почему нет третьей части в сонате op. 111? Пожалуй, я предложу вам собственную теорию. Третья часть представлена имплицитно. Своим отсутствием. Она на небе, в тишине, в будущем. Потому что ее ждешь, она уничтожает дуализм контрастного столкновения первых двух частей. Третья часть была бы медленной. Медленной, очень медленной или очень быстрой, все равно, лишь бы длилась бесконечно. По сути, это тот же самый вопрос, что разрешение Тристанова аккорда. Двойной, двусмысленный, вносящий смятение, ускользающий. Фуга. Ложный круг, невозможность возвращения, подчеркнутая самим Бетховеном в начале композиции, во вступлении maestoso , только что нами прослушанном. Уменьшенная септима. Иллюзия долгожданной тоники, тщетные надежды людей, которых с легкостью обманывает судьба. То, что хотелось бы слышать, чего хотелось бы дождаться. Безграничное упование на обновление, любовь, утешение, а следом непонятная тишина. Нет третьей части. Это ужасно, не правда ли? Искусство и восторг, радости и страдания людские громогласно звучат в пустоте. Все, что нам дорого, фуга, соната, все бренное размывается временем. Слушайте финал первой части, гениальную коду, заполняющую пространство, замирающую после долгой гармонической последовательности, — даже промежуток между обеими частями не имеет четких границ. От фуги к вариации, от бурления к эволюции. Далее следует ариетта, adagio molto, выдержанная в удивительном ритме, — шаг к простоте небытия. Опять Иллюзия, не Сущность; ее не найти в вариациях, ее не объять фугой. Только подумаешь, что любовь ласково коснулась тебя, как тут же чувствуешь, что катишься кубарем по лестнице. Странной лестнице, ведущей только к начальной своей ступени — не в рай и не в ад. Полагаю, вы согласитесь, господин Манн, что гениальность этих вариаций состоит в многообразии формы. Именно в этом и заключается жизнь — жизнь хрупкая, связующая все на свете. Красота — это переход, преобразование, колдовские силы живого мира. Эта соната живет именно потому, что она переходит от фуги к вариации и пробивается в никуда. «Что есть в ядре? Ничто. Оно здесь есть, и здесь оно». Разумеется, вы не можете знать эти строки Пауля Целана, господин Манн, потому что, когда они были напечатаны, вы уже умерли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
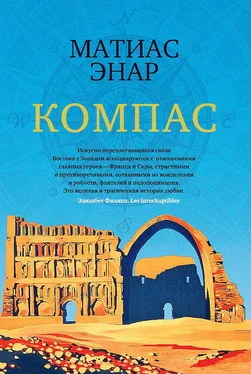
![Наталья Девятко - Карта и компас [litres]](/books/55718/natalya-devyatko-karta-i-kompas-litres-thumb.webp)
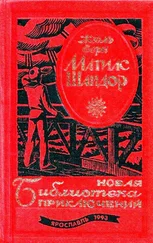
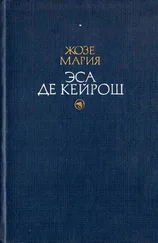
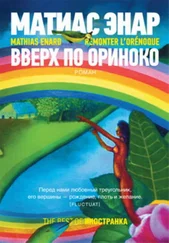
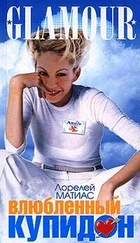

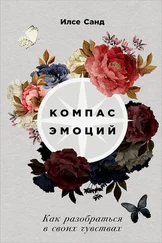
![Матиас Лаворель - Fortnite. Королевская битва. Большая игра [litres]](/books/391629/matias-lavorel-fortnite-korolevskaya-bitva-bolsh-thumb.webp)
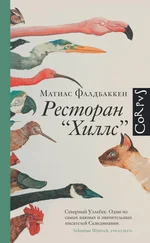
![Матиас Хирш - «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела]](/books/433440/matias-hirsh-eto-moe-telo-i-ya-mogu-delat-s-nim-ch-thumb.webp)