— Почему ты молчишь? — спросила Эстер.
— А?
— Ты что-то вспомнил?
— Так, ничего существенного.
— Расскажи.
— Не умею.
— Расскажи.
— Не могу и не смогу.
« Миленький ты мой » — на улице густой туман и слякоть, серый мартовский вечер, лыжный лагерь в Веллавере, а в соседней комнате пели наши девушки: «миленький ты мой».
— Почему не можешь?
…Старая снежная баба и фиктивная свадьба Хелины, и та старая кровать, и могила Пушкина, и знакомый огнетушитель Юлева…
— Это неинтересно.
— Почему?
— Это ничего тебе не скажет. Это слишком лично, слишком пресно.
— Ты мне не доверяешь? — спросила Эстер.
— Доверяю, — попытался я объяснить. — Но в этом не было ничего интересного. Просто были мы. Однако парня с нашего курса посадили…
— За что?
— Дурака валял. Семерых забрали в армию, двое перешли на заочное. Осталось трое.
— Я тебя спрашиваю, а ты ничего не говоришь, — огорчилась Эстер.
Говорить тебе?
Проще простого. Слова? Что-то другое? На чужих языках? На диалектах?
Я брошу к твоим ногам все библиотеки.
Пожалуйста. Полки вокруг.
К твоим красивым ногам…
— О, если б нам открылись все солнечные земли… Для тебя все стихи, вся проза, вся драма. Моя нерешительность прошла. Я уже не боюсь тебя, и не боюсь того, что должно произойти. Я этого даже хочу.
— Какой из меня рассказчик, — сказал я. — Давай еще походим.
— У тебя только одно на уме.
— Да.
Мы бродили по улицам, нам встречались разные люди. Не хватало слов. Он взял мою руку и пожал ее. Мне было приятно, но я не ответила на пожатие. Потом я пошла домой.
Велло вернулся вечером вскоре после меня. Я стирала на кухне и не услышала, когда хлопнула дверь. Войдя в комнату, я увидела, что он уже переоделся и сидит за столом. Я не видела его лица, но его понурая фигура, его молчание заставили меня подойти к нему и взяться за спинку стула.
— Где ты был? — спросила я.
Он вздрогнул, но не обернулся.
— Ну? — спросила я снова, так как молчание затянулось.
— Гулял, — ответил он наконец и откинул голову. Его волосы коснулись моей руки. Его волосы были всегда такими жесткими. Я запомнила их с того лета, с того вечера, вернее, с Ивановой ночи. На землю уже пала роса, и место от костра выглядело в этом сиянии безобразным сухим и серым пятном. Качели были брошены и пусты, мы шли сюда через поля, и вдруг на меня нашло такое чувство, будто впереди больше ничего нет. Я шла, охваченная этим чувством, по мокрой траве, но Велло ничего не говорила. Когда Велло наконец заметил, что я повесила нос и спросил, в чем дело, я не сумела ему ничего ответить.
— Может, ты боишься? — спросил он.
Я кивнула.
— Не бойся, — сказал он, и в этой фразе мне послышался пустой звон. Бывает же так, что когда людям больше нечего говорить или нечего делать, это сразу выплывает наружу, и ты тотчас понимаешь, что все кончено. Но если это касается других, ты уверен, что не все еще потеряно, это просто скрывают, хотя и не понять, зачем. Та Иванова ночь на этом не кончилась, не потонула в предрассветной грусти. Мы не нашли цветка папортника, у нас не было своего костра, мы не были подготовлены к этой ночи. За каким-то кустом в полумраке нам открылась мерзкая картина. Лежали мужчина и женщина, оба были пьяны и грязны, мужчина выл, как животное, мне казалось, что я в жизни не видела ничего отвратительнее, женщина была прижата к мокрой траве, и я физически ощутила, как прилипает ее платье к спине. Именно тогда я решила поступить в университет. Они не заметили нас, солнце уже окрасило в ярко-алый цвет восточную стену дома, стоявшего на горизонте. Мы отпрянули и направились к реке. Последний пароход еще не отчалил. Когда мы ехали назад, ветер дул навстречу, и металлические поручни на палубе были холодными, с них капало. Велло ничего не говорил, в городе мы сошли на причал. Солнце стояло высоко. Не было как будто ничего особенного, не было ореола. Мы отправились домой по пустынному городу.
Теперь я гладила его волосы, как тогда на пароходе, робко, испытующе; мне хотелось узнать, что было, что есть, что будет.
— Ты устал? — спросила я.
— Ничего.
— Как — ничего?
— Просто, ничего.
— Тебе все-таки надо отдохнуть.
— Надо, — улыбнулся он. — Да, надо.
— Ну?
— Завтра поеду кататься на велосипеде.
— А книги оставишь дома?
— Одну возьму с собой.
Спорить не имело смысла. Хорошо, что он вообще решил прокатиться. Весной он ездил несколько раз и всегда возвращался бодрым. Ведь такой сидячей жизнью можно угробить себя. Пусть едет. Он всегда ездил один, и я боялась ему сказать, что иногда и я бы с радостью поехала с ним. Я думала, пусть хотя бы там, на природе он побудет один. Но когда он вечером накачивал шины, я почувствовала даже своего рода радость, что завтра и я смогу делать, что захочу, что завтра у меня не будет никаких обязанностей, хотя эти обязанности я придумала себе сама. Но странно, сейчас все это интересовало меня как будто меньше, чем весной.
Читать дальше


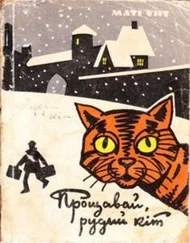


![Тейлор Дженкинс Рейд - Возможно, в другой жизни [litres]](/books/408495/tejlor-dzhenkins-rejd-vozmozhno-v-drugoj-zhizni-lit-thumb.webp)





