История про моего мичмана, наверное, всем уже поднадоела, но на всякий случай расскажу еще раз, вдруг кто не слышал.
Я тогда в политехе училась, и летом нас на практику послали в Севастополь. Как-то прихожу я на переговорный пункт и замечаю, что какой-то тип в морской форме вытаращился на меня. Я присматриваюсь и вдруг соображаю, что это Пашка Стороженко. Мы с ним вместе учились в политехе. У нас была нежная дружба, а потом нежная переписка, когда его забрали в армию. Правда, как мужчину я его никогда не воспринимала. И вот этот Пашка, повзрослевший, возмужавший, сидит на переговорном пункте в Севастополе и вовсю глазеет на меня. Я подбегаю к нему:
— Пашка!
А он мне:
— Вы обознались.
Я ему:
— Пашка, я Инна. Ты что, не узнаешь меня? Неужели ты забыл Харьков, политех? Что, флот память отшиб?
— Прости, — усмехается Пашка, — столько воды утекло с тех пор. Как тебя сюда занесло? Отдыхаешь?
— Практика, — отвечаю я.
— А я решил не возвращаться в политех, так в армии и остался, — вздыхает Пашка. — Ну как там наши?
— Верка вышла замуж за Борю, Лара родила ребенка, а Оля…
— Про Олю мне и вспоминать не хочется, — хмурится он.
— Почему? — удивляюсь я.
— Не будем возвращаться к этому. И вообще, хватит воспоминаний, — отрезает он.
— Ну хватит так хватит, — пожимаю я плечами.
Потом мы гуляем всю ночь, а под утро он делает мне предложение, и я соглашаюсь. На следующий день он является в мое общежитие с тортом и букетом цветов, и мы щебечем, ну и, конечно, объятия, поцелуи и всякое такое, и тут я ему говорю:
— Пашка, подумай серьезно. Я ведь еврейка. Если у тебя будет еврейка жена, это может серьезно повредить твоей карьере. Ты же военный. Если ты сейчас откажешься от своего предложения, я не обижусь, я приму это как должное, я…
И тут Пашка мне заявляет:
— Инна! Ну где твои глаза? Неужели ты не видишь, что я тоже еврей?
— Ты? Еврей?!
Вне себя от радости и изумления я бросаюсь ему на шею и вдруг спохватываюсь:
— Постой, постой, Стороженко — это ведь украинская фамилия. Какой же ты еврей?
— Я не Стороженко, — вздыхает он. — Я вообще не Пащка. И он протягивает мне военный билет, в котором черным по белому написано: Леонид Самуилович Эпштейн, еврей.
— Я понимаю, — продолжает он, — что это подло воспользоваться твоим хорошим отношением к другому человеку, я понимаю, что не меня ты любишь, а его, Пашку. Одно твое слово — и я уйду.
«Чего это вдруг ему уходить? — думаю я. — Разве Пашке я ответила согласием на предложение? Разве Пашку я когда-нибудь рассматривала в этой роли? Нет, я ответила согласием Лене Эпштейну».
— Ну что ты, милый, — шепчу я. — Никакой Пашка мне не нужен, мне нужен только ты.
На следующее утро прямо от меня Леня уходит в рейс и обещает писать. И действительно, он регулярно пишет мне со всех своих черных, красных и белых морей. В последнем письме он пишет: «Может быть, когда-нибудь увидимся». Я после этого уже не отвечаю ему.
Если бы я сама не была еврейкой, сказала бы: «Вот и верь после этого евреям».
Но как этот подлец похож на Пашку, ну просто как две капли воды похож, даже характером и то похож. А ну их к лешему обоих!
Вообще-то я считаю, что если Бог и дал мне какой-то талант, то это талант быть еврейской певицей, то есть не просто певицей, а именно еврейской. У меня была пластинка Лифшицайте, так вот, у нас с ней совершенно одинаковые голоса, и петь я могу не хуже. Голос у меня высокий, резкий, вибрирующий, для русских песен не подходит и для классики всякой тоже, а для еврейских — в самый раз. Папа меня в детстве любил выставлять гостям, чтобы я пела еврейскую «Песню без слов». И гости, помню, были без ума от моего пения. А папа был в молодости знаком с Лифшицайте, и про эту самую «Песню без слов» рассказывал со слов самой певицы, что когда она должна была ехать в Израиль на празднование дней Шолом-Алейхема, она подала на утверждение высокому начальству список песен, и «Песню без слов» ей вычеркнули. Лифщицайте спросила, чем же может быть опасна песня, если она без слов, и ей ответили:
— Знаем мы ваши песни без слов, уж лучше пойте со словами.
Лифшицайте могла петь со словами, а я не могла, потому что еврейского языка не знала. Но меня это мало волновало, потому что на сцену с еврейскими песнями перестали выпускать, и почти все еврейские певцы эмигрировали. Я решила стать оперной певицей.
Кому только родители ни показывали меня, когда мне исполнилось шестнадцать и надо было всерьез думать о моей будущей профессии. Кроме голоса и слуха, никаких талантов у меня не было, поэтому на них-то и была сделана главная ставка. Во-обще-то профессионалы меня хвалили, но при этом отмечали, что мне надо поставить голос, потому что он очень резкий, ну и вибрация к тому же.
Читать дальше
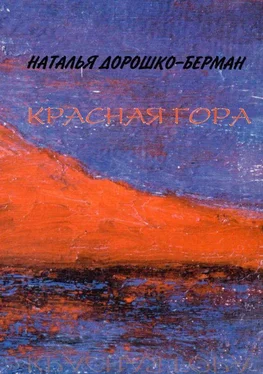
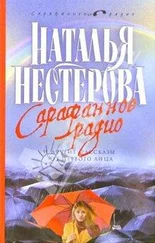






![Алёна Лонкина - Красная гора [litres самиздат]](/books/437530/alena-lonkina-krasnaya-gora-litres-samizdat-thumb.webp)



