— Разрешите, — говорю я и подхожу к Жеральдине.
— Я только что узнал, — говорю я. — Очень сочувствую, Жеральдина. Мы будем рады помочь всем, чем сможем.
— Спасибо, сеньор, — говорит она.
Глаза у нее опухли от слез, это другая Жеральдина, вся в черном, как Ортенсия Галиндо, но по-прежнему при ней, никуда не делись, ее коленки (думаю я, не в силах сбежать от самого себя), еще более округлые и ослепительные. Она держит голову довольно высоко, как будто подставляет шею кому-то или чему-то незримому, какому-то смертельному врагу или оружию. Ее лицо, совершенно убитое, кривится, зрачки лихорадочно блестят, она сжимает и разжимает кулаки.
— Сеньор, — говорит она мне, — Отилия спрашивала про вас. Она очень волновалась.
— Сейчас я пойду ее искать.
Но я не двигаюсь с места, Жеральдина продолжает на меня смотреть:
— Вы слышали, учитель? — она не может сдержать рыданий. — Мой сын, мои дети, их увели, этому нет Божьего прощения.
Доктор Ордус щупает ей пульс, говорит дежурную фразу о том, что она должна успокоиться, что всем нам нужна сильная, стойкая Жеральдина.
— Да разве вы знаете, что это такое? — восклицает она с неожиданной яростью, словно взбунтовавшись.
— Знаю, мы все знаем, — отвечает доктор и обводит нас взглядом. Мы, в свою очередь, смотрим друг на друга, и выходит, что мы не знаем, в глубине души мы без всякого стыда признаем, что не знаем, но здесь нет нашей вины, и это, похоже, мы знаем точно.
Жеральдина снова обращается ко мне:
— Учитель, он пришел с этими людьми среди ночи и увел детей, словно так и надо. Он увел детей молча, не сказав мне ни слова, как мертвец. Остальные держали его на мушке; наверно, они не дали бы ему заговорить, правда? поэтому он не смог мне ничего сказать. Я не хочу верить, что он молчал из трусости. Он сам взял детей за руки и увел. Мне остается только вспоминать и мучиться еще сильней, потому что дети спрашивали: «Куда нас ведут? Почему нас разбудили?». А он говорил: «Идемте, идемте, просто погуляем», — это он им говорил, а мне ни слова, как будто я не мать своему сыну. Они ушли, а меня оставили, сказали, чтобы я готовила выкуп. Они сказали, что свяжутся со мной, им хватило наглости смеяться. Они забрали их, учитель, и кто знает, на сколько, Господи, если бы мы успели уехать, не только из этого города, но из этой проклятой страны.
Доктор подает ей успокоительное, кто-то наливает стакан воды. Она не обращает внимания ни на лекарство, ни на воду. Ее воспаленные глаза смотрят на меня и не видят.
— Я не могла шевельнуться, — говорит она. — Просидела неподвижно до зари. Я слышала, как вы вышли из дома, слышала вашу дверь, но у меня не было сил закричать. Когда я смогла идти, уже наступило утро, первый день моей жизни без сына. И тогда мне захотелось, чтобы меня проглотила земля, понимаете?
Врач снова протягивает ей таблетку и воду, она берет все это, не сводя с меня невидящих глаз, пока я иду к двери.
* * *
Дома Отилии нет. Я стою в саду, он нисколько не изменился, как будто, несмотря на то что произошло, ничего не произошло: лестница приставлена к ограде, в фонтане плавают оранжевые и неоновые рыбки, один из котов наблюдает за мной, потягиваясь на солнце, и заставляет меня вспомнить о глазах Жеральдины, Жеральдины, такой непривычной во всем черном.
— Учитель, — кричит кто-то от двери моего дома, которую я оставил открытой.
На пороге меня ждет Султана с дочерью, той самой девушкой, которая дежурила у больного Маурисио Рея. Как будто мне ее прислал Рей. Но он ни при чем: оказывается, моя собственная жена договорилась с Султаной, что ее дочь раз в неделю будет помогать нам в саду.
— Мы встретили вашу сеньору на углу, — объясняет Султана. — Она сказала, что идет в церковь, чтобы узнать про вас. Надо бы вам сходить за ней, сегодня неподходящий день для прогулок.
Я слушаю Султану, но вижу только девушку: сейчас она не выставляет напоказ растрепанные волосы и даже глядит по-другому; сейчас это просто девочка, которой не терпится уйти или просто неохота работать.
— Дел не так много, — успокаиваю я ее. — Нужно только собрать оставшиеся апельсины, и сразу пойдешь домой.
Отилия, сама того не подозревая, подвергла меня искушению. Девушка сейчас в цельнокройном платье, босиком и уже не такая неотразимая; она вприпрыжку бежит по коридору, заглядывает в кухню, застенчиво осматривает две комнаты и гостиную — беззащитная, худенькая, как птичка. Она не похожа на мать: Султана крупная, ширококостная, сильная, в неизменной ядрено-красной бейсболке; внушительный живот не мешает ей тяжело работать: она одна наводит чистоту в церкви, в полицейском участке, в мэрии, стирает, гладит, зарабатывает этим на жизнь и хочет, чтобы дочь зарабатывала тем же.
Читать дальше
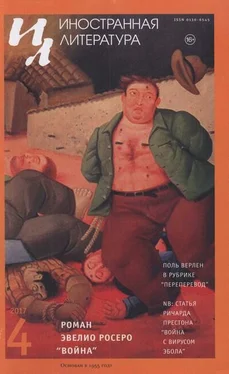
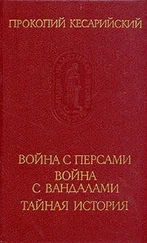


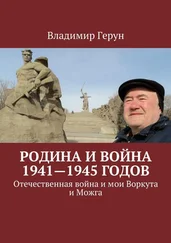

![Станислав Сергеев - Всегда война - Всегда война. Война сквозь время. Пепел войны (сборник) [сборник]](/books/408174/stanislav-sergeev-vsegda-vojna-vsegda-vojna-vojn-thumb.webp)





