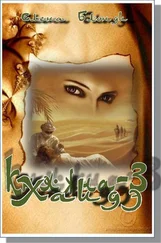За окном изредка вскрикивали стрижи, летний ночной ветерок шумел в тополях, прикидываясь сильным и холодным, а Ленка лежала, с открытой перед глазами тетрадкой, неудобно повернув голову, чтоб не заслонять свет настольной лампы за своей макушкой. Медленно листала, выхватывая фразы из начала и середины, почти из конца тетради. Разбирала плывущую вязь непривычного почерка. И хмурилась, не зная, разочаровываться ли совсем.
«…а вдруг это я, сказала моя спутница, а я просто кинул ему монетку, пятак, зная что все равно пропьет, вон магазин рядом, скоро открывается. Но она, цветущая, как то пишут в легендах, миндаль, амигдала, или — лепесток яблони, вдруг увидела в нем себя, почему? Что общего? Я мог спросить, но думать и догадываться мне показалось интереснее. А утром оказалось, сошла с поезда пока я спал. И значит спрашивать некого. Остались догадки, варианты, и среди них, может быть, верный. Но никогда я не узнаю, какой именно. Если не встречу ее снова. А вдруг встречу не ее, а такого вот, в засаленной кофте, в драных штанах, с глазами, полными старческой слезы, и голова трясется, стоит вокруг запах перегара. И теперь, на каждой станции, буду думать, бросая им свои пятаки, обреченные на пропивание, а вдруг это — она?»
…«оконные стекла ловят закатный свет и становятся оранжево-огненными, и так везде. Я могу быть тут и не тут, а они горят, а вдруг за ними горят те, кто живут там? Может быть, на закате нужно ходить и стучаться в двери, спрашивая, что именно сгорает сегодня? И хорошо, если это не люди, а то, что они надумали, или натревожили для себя, оно — пусть горит»
…
«Ильинична носит косынки. У нее волосы цвета свежего снега, а на них всегда цветная косынка, и надо было спросить, когда повязала впервые. Ведь была девушкой, носила косу, вот еще вопрос — какого цвета? Над этажеркой висит рамка, в ней десяток фотографий, все старые, ч-белые, у девушек и молодух там серые косы и серый под шляпками перманент. Не брюнетка, да. Хотел спросить, не успел. Теперь придется спрашивать себя, точно ли я отправился по своему пути? Почему с первых же шагов что-то все время остается невыясненным, что-то важное именно мне? Может быть это знак. Но как отказаться, если завтра новое. Снова и снова».
У Ленки слипались глаза, и она закрыла тетрадь, уложила ее на пол рядом с диваном. Вздохнула. И правда, ждала, после портрета Миши Финки, историй о его приключениях, о том, какая экзотика встречалась у него на пути во всяких там местах и уголках. А тут…
Ей приснилась старая женщина с толстой белой косой. Улыбнулась Ленке, складывая снятую с головы косынку в кармашек платья. Коса вдруг стала цветом, как те на закате окна, горела нестерпимо и прекрасно, и старая женщина с каждой секундой становилась моложе и прекраснее. И Ленка, умирая от восхищения, испугалась, за незнакомку, а вдруг это она, подумала во сне, укладываясь набок и суя ладони под скулу, где подживал маленький шрамик, там, на вокзальном углу, рядом с вонючей урной, в засаленном тряпье, с рукой, протянутой к прохожим, вдруг это она — там? И почему?
«А жена Николая, Павла Никитична, женщина большая, мощная, с сильными руками и тяжелым подбородком, странно видеть, как у него разглаживаются резкие складки вдоль щек и на лбу, когда вспоминает о ней, мимоходом, я вижу, только чтоб сказать имя. Было странно, пока не показал мне фотографию среди старых бумаг. Свадебный снимок, и я дурак, чуть не спросил, глядя на высокую, тонкую, как змея, чернобровую женщину с резким взглядом, а это, Коля, с тобой кто? Высокие женщины теряют фигуру, набирая мощи в грудь и плечи, полнеют руками, и только он видит в своей Павле ту самую, до восторга великолепную. Но мне повезло. Я видел, как сидели на берегу маленького озерца, там круглые подушки мха, усыпанные шариками клюквы, словно разбрызгана кем-то кровь. Павла держала на коленях голову мужа, рука в его волосах, что-то говорила и пела, после смеялись. И видно было, с ней ему хорошо. А чего же еще. Как все просто».
У Ленки замерзла опущенная на пол нога, и она, повертевшись на табурете, поменяла ноги, подобрала холодную, опуская вниз другую, нашарила пальцами тапок, огромный, плюшевый. Отхлебнула остывшего чаю и перевернула страницу.
«Иван. Все время один, и молчит. А когда нет никого, изредка говорит вслух, негромко, обращаясь к низеньким травам и корявым кустикам. Руками не трогает, и вообще нет в этом никакой дурацкой сентиментальности, какую любят показывать кинематографисты, когда высоко дышит у героя грудь и глаза блестят тайными слезами. Просто видно, что с воздухом, травой и птицами ему проще, чем с людьми. За молчание и неловкую вечную улыбку в бригаде слывет дурачком, но ценится за трудолюбие и терпеливость. Алан Маршалл, из любимого, молчун под эвкалиптами, перечитать, а то и название не помню, но идея верна и прекрасна, зачем слова там, где можно без них».
Читать дальше