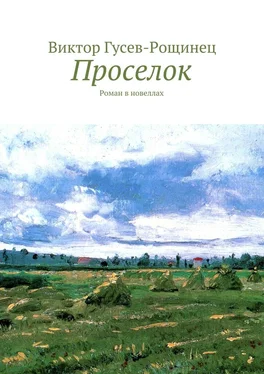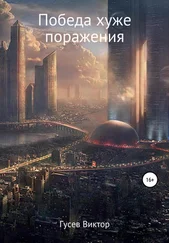Они поцеловались. И оба смутились, как дети, которым случилось поцеловаться среди игры; Альберт Васильевич хотел что-то сказать, но слова замерли на губах из страха быть произнесены всуе, и, повёрнутая вспять, неуместная цитата преобразилась в молитву. Бог есть любовь, пребывающий в любви пребывает в боге, и бог в нём . Со спрятанными всё ещё глазами Альфия потянула его за руку; они вышли тем же путём и, обогнув угол храма, оказались на высоте над скрытым хвойной лесной порослью берегом, убегающим — через брешь в церковной ограде — вниз по склону просёлком и далеко видимой с востока на запад лентой реки. Шишкинский знакомый пейзаж! Несомненно, с этого места он и видел и писал его! Кама в окрестностях Елабуги. Она не была в Нижнем Новгороде, сказала Альфия. К сожалению. «Не беда, — сказал он, — у вас ещё всё впереди». И тут же поправился: « У тебя». Разумеется, там нет на горизонте этих нижнекамских чудовищ, ощетинившихся трубами, изрыгающих дымное пламя и насылающих удушье посредством ветров, сохраняющих тут упорное, достойное лучшего применения постоянство направлений. Нет, сказал он, Шишкин тем и хорош: донёс до нас русские ландшафты в их первозданном виде, его взгляд не замутнён предвзятостью, не искажён дурным настроением. В живописи Альберт Васильевич, как это ни покажется странным в наше время, оставался поклонником натуральной школы. На что Альфия заметила: в нынешнем положении вещей более была бы кстати сезанновская кисть с её нависающими задними планами — по крайней мере стало бы ясным, что надвинулась катастрофа. Альберт Васильевич не согласился: у Сезанна этот маленький ад на горизонте, придвинувшись вплотную к зрителю, был бы необычайно красив. Неужели она никогда не замечала, как бывают красивы урбанистические пейзажи? Это зловещая красота, сказала Альфия. Демоническая. Дьявольская. Верещагинская гора черепов тоже красива, он согласен? Трагедия эстетизма в его бессилии. Так беседуя, они вернулись через «липовый зал» (Альфия сказала) к домику с мемориальной доской, минуту молча перед ним постояли, мысленным взором проникая внутрь, насылая туда призраки былых времён, и потом, кажется, даже поклонившись едва заметно, двинулись вверх по улице Жданова. Но теперь всё было по-другому. Запечатленный полчаса назад поцелуй работал наподобие катализатора в набирающей силу реакции образования страсти, точки соприкосновения рук становились всё более горячими; пали сумерки, и Лыков обнял её за талию, пользуясь тем, что улицы были по-прежнему пустынны и плохо освещены. Альфия не только не противилась этой бурной атаке, но и, по всему, была возбуждена не меньше и, когда в ход пошла «тяжёлая артиллерия» — стихи, сдалась на милость победителя, приняв приглашение ««на чашку чая». Дон Жуан в обличье Альберта Лыкова торжествовал, изливая нахлынувшее чувство в стихотворной импровизации. « Я не дьявол-искуситель, не знаток рецептов яда, у дверей твоих проситель нежно-трепетного взгляда! » Альфия громко рассмеялась, и то была чудеснейшая музыка, мелодичная и волнующая, как итальянская тарантелла; она придала ему уверенности, и он продолжал: « Я не сумрачный гадатель телепатов тайной лиги, я души твоей читатель — увлекательнейшей книги…». Дальше должно было что-то последовать об авторе — «из рода менестрелей» и каких-то «песнях огненной метели», но тут они подошли к подъезду гостиницы, Лыков прервал сочинение на полуслове и сосредоточился. Все знают, что проникнуть в советскую гостиницу без документа и специального разрешения администрации человеку с улицы нелегко, даже если он идёт в сопровождении того, кто на законных правах пользуется гостиничным номером. Гостям же, паче чаяния они были допущены в святую обитель, разрешено оставаться в ней не долее чем до одиннадцати вечера, после какового часа для выдворения их может быть применена сила. (Исключение составляют преступные элементы, но известным преступлениям против нравственности в «Елазе» места не было по причине заштатности командированной клиентуры.) Да и Лыков с большим несравненно удовольствием пригласил бы новую знакомую в театр или, на худой конец, в ресторан, только театра в Елабуге никогда не было, а ресторан, сказала она, отвратительный, к тому же все места наверняка заняты. Пожалуй, пуще всего Альберта Васильевича смущало воспоминание о неосторожном жесте — знаке определённого расположения, которым он приветил поутру даму за конторкой. Если она, по несчастью, не сменилась, то положение будет не из ловких. Они вошли в подъезд и поднялись — четыре ступеньки — на площадку перед лифтом. За конторкой администратора, видимой через отворённую дверь в конце коридорчика, было пусто; пустовало и деревянное кресло вахтёрши с круглой, вышитой гладью подушечкой на сиденье. Эти несколько секунд между блаженством свободы и позором бесправия, между мстительным чувством победы над полицейщиной и унизительностью привитой вины показались Лыкову вечностью. У лифта горела красная кнопка; цена успеха равнялась пяти шагам, которые отделяли их от входа на лестницу, и ещё восьми коротким пролётам, где вероятность быть задержанными существенно уменьшалась, однако не исчезала вовсе. И они преодолели их с достоинством, даже не пытаясь бежать; ключ, взятый наизготовку, мягко вошёл в замочную скважину, совершил два восхитительно бесшумных кульбита, и ворота в рай послушно распахнулись, приглашая войти. Они переступили порог, Альберт Васильевич затворил дверь, для уверенности надавил на неё плечом и снова замкнул запоры. Альфия засмеялась и сказала:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу