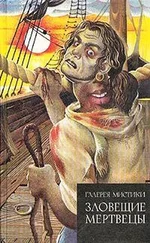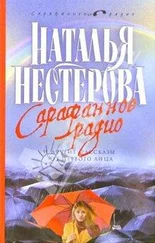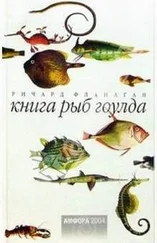Мы молча наблюдали. Зверек не хотел умирать.
Пойду я, сказал Рэй. Не нравится он мне.
Я, оставшись, смотрел на крупный кожистый нос, который изо всех сил старался дышать, сжимаясь и раздуваясь в неестественном ритме. Большие черные глаза уставились куда-то вниз, на землю. Зверек отказывался умирать.
Валим отсюда! – крикнул Рэй.
Это была тайна, которую мы низвели до уровня своей тяги к знаниям. Все, о чем нам больше всего хотелось узнать в том возрасте, – это смерть. Раздался громкий хлопок, похожий на шлепок. Подняв голову, я увидел, что Рэй чуть ли не в упор прострелил зверьку голову.
Мать твою, дай ты этому засранцу сдохнуть, сказал он.
6
Иногда я размышляю, какие мысли обо мне роились в головах тех загубленных зверей. О том, кто стоял над ними в их смертный час. А иногда вижу, как они толпятся надо мной. Но такие картины я стараюсь прогонять. Меня берут в кольцо птицы, звери, рыбы, и все сильнее крепнет мой страх перед замкнутым пространством, тесными помещениями, лифтами, салонами самолетов, толпами, где надо мной склоняются другие, давят и душат, устремляя пустой взгляд в землю.
По ночам теперь мебель в спальне движется, живет, превращаясь в них, – это преследователи приходят за мной. Сьюзи хотела жить со мной. А мне было трудно ужиться даже с самим собой. Знаете, всегда кто-то остается. Выживает. Всегда. Что представляет собой такое существо, трудно сказать. Но оно реально. Вот почему ты постоянно в движении. Меня всегда спрашивают: Почему? Почему ты продолжаешь делать то, что делаешь? Ну придумываешь все эти шоу, запускаешь новый сериал, следующий проект, хотя мог бы просто уйти на покой? Почему? И я отвечаю: мне это по душе – никто не отказался бы этим заниматься.
Но правда заключается в том, что любая остановка, любые раздумья о совершенных злодеяниях заставят меня покончить с собой.
Возможно, именно этого боялся и Хайдль.
Я стоял у окна кабинета, глядя на бесчисленные уличные огни, и тут зарядил дождь, напомнив, что час уже поздний. Огни начали расплываться, а с ними ушли и мои мысли. Унылая плоская территория мельбурнского порта преобразилась из монохромной в золотую и красную, а затем стала головокружительной тьмой, испещренной огнями автомобилей, строек и подъемных кранов, яркими вспышками белого, красного, синего и желтого, – поток движения, воплощенный в красоте и цвете какого-то потустороннего мира мертвых, где достигнуто окончательное примирение света и тьмы, добра и зла. Я ощутил неведомую прежде опустошенность и в то же время опьянение чем-то соблазнительным и прекрасным, объединившим мою судьбу, казенный директорский кабинет, ночной город, это было совершенно необъяснимо. Я ощутил волну теплого воздуха, поднимавшегося от системы центрального отопления, сладковатый, чуть тошнотворный, гнилостный запах, а внизу заметил фигуры, двигавшиеся тут и там с непоколебимой таинственностью привидений.
Только сейчас я понял, что Хайдль ушел некоторое время назад.
Я повернулся, прошел к директорскому столу, снял трубку, не прижимая ее к уху, чтобы не погружаться в ауру Хайдля, не вдыхать его запах и не впускать в себя запахи и звуки ужасного мира, способного в любую секунду меня поглотить и задушить, и уже собрался позвонить Сьюзи, как вдруг заметил рядом с аккуратно сложенной газетой Хайдля листок бумаги. Я поднял его. На нем читалось одно небрежно написанное слово – преэклампсия . Рядом с ним стояла жирная галочка, сделанная другой ручкой.
Собираясь вернуть бумажку на место, я заметил кое-что на обороте: Бретт Гаррет . И эти два слова были перечеркнуты одной линией, теми же зелеными чернилами.
1
Бывало, вечерами, находясь у Салли, вне пределов досягаемости Хайдля, я подходил к окну, выглядывал из-за гардины, убеждался, что за мной нет наблюдения, и только после этого шел на кухню, устраивался в кресле или на диванном уголке, и мы с Салли заговорщическим шепотом начинали беседу. Совершал ли Хайдль убийства? Способен ли убить? В один из таких вечеров я, не располагая, впрочем, никакими доказательствами, сказал, что Хайдль, с моей точки зрения, трус.
Трус? – Откинувшись назад в старом, с протертой, засаленной обивкой любимом кресле, тощий Салли даже забыл, что в пальцах у него тлеет косячок, и эффектно вздернул седую, лохматую левую бровь, что придало его помятому лицу совершенно другое выражение.
На свой же вопрос он ответил не сразу. Проговорил, что трус – это самый страшный человек, способный пуститься во все тяжкие, лишь бы доказать себе и другим свое бесстрашие.
Читать дальше