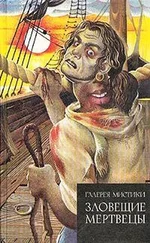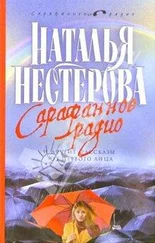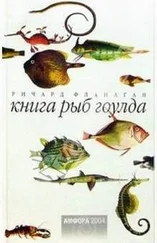Большая часть из того, что он говорил , оказывалась совершенно не пригодной к использованию. Менее опытные лжецы стремились бы придать вранью хотя бы видимость правды и логики. Но жизнь никогда не бывает логичной, и он в какой-то момент, задолго до нашего знакомства, понял, что полнейшая несостоятельность его химер служит вследствие некой алхимии самым убедительным их доказательством. Хайдль, подобно Всевышнему, имел в своем активе грандиозные свершения, но в книге нужно было обходиться лишь тем, что правдоподобно и реально осуществимо.
Я сидел молча. И, будто наперед зная мои мысли, Хайдль шагнул в зияющую между нами пропасть. Наконец-то он стал рассказывать правду о том, что происходило с ним раньше. Это были не очень откровенные рассказы, но захватывающие и даже в чем-то полезные; он говорил и говорил. Речь его, от которой голова шла кругом, лилась полноводным потоком, а потому стрелки часов ускоряли свой бег, приближая послеполуденные часы, предзакатное время, желтые катаклизмы сумерек и наступление вечера, чьи катастрофы цвета и тьмы превращали бесцветный кабинет в дивную обитель.
А Зигги Хайдль все не умолкал.
Одни рассказчики говорят непринужденно, переходя от легкой рысцы к резвому галопу. Другие уподобляются слонам, которые медленно тащат за собой поезд, но все же движутся вперед. Бывают и настоящие, неподражаемые рассказчики, вроде Хайдля. Они способны тебя оседлать, и ты поскачешь быстрее и быстрее, считая, будто сам этого хочешь, и совершенно не сознавая, пока не окажется поздно, слишком поздно, что верховой направляет тебя к гибели, а ты не в силах помешать этому рассказу стать твоей судьбой.
5
Я стоял в свете огней ночного города, готовясь уйти из кабинета, и вдруг вспомнил, как в отрочестве мы с Рэйем промышляли охотой, используя ружья двадцать второго калибра, капканы, силки и хорьков. Нам, мальцам, от роду было десять и одиннадцать лет. Мы убивали птиц, кроликов, опоссумов, вомбатов – любую живность, попадавшую нам на мушку. Поразительно, кому только мы не приносили смерть и муки. Когда добыча не подворачивалась, мы палили по коровам, и те сильно мучились от нанесенных им ран. У нас существовало смутное представление о зле, но очень размытое, а частенько и вовсе никакое; впрочем, когда оно давало о себе знать, в нем была притягательность, как и в других взрослых табу, которые нам случалось нарушать. По большей части мы упивались этим миром, своим образом жизни, предоставленной нам свободой и созерцанием смерти живых существ, причем это происходило по-разному: у одних стекала из пасти струйка крови, у других стекленели темные глаза, у третьих дергались ноги или билось в конвульсиях все туловище. А мы словно завороженные стояли над испускавшим дух зверьем.
Когда мы со смехом носились по пастбищам и лесу, нам и в голову не приходило, что мы – повелители смерти. Наблюдать за кончиной живого существа увлекательно, но в то же время как быстро все это забылось, но вот и всплыло вдруг – вместе с ощущением, что во мне теперь живет Мельбурн, когда я лежал на полу в квартире Салли. Отчетливее всего я помнил ощущение свободы.
Какое роскошество! Оно теперь испарилось, будто его и не было вовсе. Мне так и видится, как солнце в те дни вставало над неизведанной, по утрам зовущей нас в путь планетой и расцвечивало окутавший нас туман, пока он не начинал светиться, а затем капитулировал и рассеивался, оставляя за собой такой яркий свет на фоне покрытых инеем лужаек, что мы с полузакрытыми глазами шли на его зов. Я и сейчас чувствую, как роса медленно просачивается мне в башмаки и холодит ступни, а солнце согревает лицо, вижу зелень кустарников, красноту маслянистой почвы, напоминающей какое-то блюдо, и несравненное диво ручья, который мы переходили вброд. Всплески воды, разбивающейся, точно по диагонали, о бревно. Я и сейчас их слышу. Красоты, святыни… но я тогда этого не сознавал. Почему?
Если умерщвление и было видом познания, интерес к нему в какой-то момент пропадал, оно приедалось, и мы уходили, оставляя бьющееся, умирающее существо вне его привычной среды. Не всегда, впрочем: однажды, помнится, подстрелил я вомбата, вразвалку ковылявшего через пастбище. Мы поспешили к его подбитой тушке, в ужасе поглазели на окровавленный мех, на тонкую струйку крови, вытекавшую изо рта, еще живые глаза, видевшие или – вполне вероятно – не видевшие нас, но осознававшие, вероятно, нечто бесконечно большее.
Читать дальше